
её толки и литература о ней.
Публикуемая книга В.М. Васильева посвящена характеристике марийской религиозной секты «Кугу сорта» (Большая свеча). Она была издана в 1928 году после обсуждения на открытом заседании краеведческого
общества в г. Краснококшайск. Книга имела большой успех не только среди рядовых читателей, но и ученых-религиоведов, атеистов. В настоящее время она является библиографической редкостью.
Между тем ее без всякого сомнения можно считать историческим и культурным памятником.
Сектантство издавна играло важную роль в жизни российского общества. Согласно результатам Всероссийской переписи населения 1897 года только раскольников и сектантов в стране насчитывалось 2,1 млн человек.
Верующие сектанты, несмотря на преследования светских и духовных властей, не хотели отказываться от подвижнической деятельности во имя своей веры, утверждая в обществе древнее благочестие.
Религиозным поискам благоприятствовала проводимая во второй половине XIX века модернизация российского общества. В условиях царского режима любые значительные по масштабам перемены неизбежно
сопровождались дестабилизацией общественных отношений, ослаблением влияния имперской традиции. Усилившиеся в пореформенный период процессы социальной дифференциации, урбанизации и индустриализации,
а также распространение грамотности вызывали в сознании людей существенные перемены. Нередко это приводило к росту среди верующих тревоги за будущее, порождало ощущение предчувствия наступающего
апокалипсиса.
Религиозная секта «Кугу сорта» — одно из проявлений неоднозначного воздействия модернизационного процесса в России. Марийскую секту можно считать уникальным явлением в духовной жизни народа. Этот
своеобразный духовный феномен сформировался в результате переосмысления православного вероучения в духе традиционной религии мари и его традиционной культуры.
Марийские крестьяне официально считались православными. В то же время они оставались приверженцами своей марийской религии, тайком от церковнослужителей и местной администрации поклонялись божествам
и духам. В результате такого двоеверия в сознании верующих древнемарийские религиозные представления постепенно обогащались ветхозаветными преданиями, а марийская дохристианская обрядовая практика -
православными культовыми действиями. Так сформировалось несколько конфессиональных групп: приверженцы православной веры (руссковеры или «рушла вера»), почитатели православных и дохристианских
религиозных верований, назвавших себя приверженцами марийской веры («марла вера»). Марийцы, отказавшиеся перейти в православную веру, называли себя «чимари вера».
В южной части Яранского уезда Вятской губернии преобладали приверженцы марийской веры. Часть марийцев, проникшись духом освобождения, решила отказаться от православной веры, перестала подчиняться
обличающим и оскорбляющим марийскую веру священнослужителям, и, наконец, решила возвратиться к истокам своей веры путем возрождения основ марийского вероучения.
Свою возрожденную веру они называли древнемарийской, т.е. восходящей к истокам марийской культуры, не имеющей ничего общего с православным учением. Верующие, как это видно из содержания книги
В.М. Васильева, не отвергали при этом наличие в своих религиозных представлениях отголосков ветхозаветных сказаний, христианских морально-нравственных норм и даже некоторых догматов христианства.
Сознательно умалчивая о заимствованиях некоторых положений христианства, сектанты вовсе не хотели признавать влияние православного учения, отвергли положительную просветительскую роль православного
духовенства. Более того, они открыто выражали свое нежелание считать себя православными верующими, отказывались поклоняться иконам, посещать православные храмы и часовни, исполнять таинства.
Первые сведения о зародившейся среди марийцев секте «Кугу сорта»
B.М. Васильев мог узнать из многочисленных газетных публикаций. Более внимательно к этой теме он отнесся, прочитав известную статью C.К. Кузнецова «Черемисская секта «Кугу сорта». В.М. Васильев и
раньше следил за творчеством казанского этнографа, вызывавшего порой у него резко критическое отношение. Познакомившись с этой работой, он решил написать свои критические заметки, обратив внимание
на насмешливо-иронический тон его статей, обилие лингвистических ошибок.
Познакомиться с кугусортинцами Васильеву удалось только в июне 1916 года после многократного обмена письмами. Он сумел наладить доверительные отношения с ними, в течение целой недели имел возможность
общаться с наиболее активными сектантами. Вместе с Васильевым в качестве фотографа был учитель образцовой школы Казанской учительской семинарии К.В. Буртаев. В январе 1917 года В.М. Васильев
продолжил беседы с одним из руководителей секты Андреем Якмановым, приехавшим в Казань к нему для совместного изучения публикаций о секте. В 1Ч17 году ученый опубликовал сборник довольно оригинальных
молитв кугусортинцев. Осенью 1919 года ученый вновь встретился с сектантами. На сей раз те отнеслись к нему более дружелюбно, разрешили присутствовать на одном из молений в Упшинской роще.
Прежде чем начать обсуждение замечательной работы В.М. Васильева хотелось бы определиться с понятием «секта». Этим термином (от латинского secta—учение, направление, школа) принято обозначать
религиозную группу, общину, отколовшуюся от господствующей церкви. Встает вопрос: от какой религии или церкви откололись кугусортинцы? На этот счет существуют две точки зрения. Одни считают ее
модернизированным вариантом традиционной марийской религии. Другие ее называют православной сектой. На наш взгляд, в зарождении религиозной секты «Кугу сорта» большую роль сыграла эволюция традиционных
верований и формирование православно-языческих синкретизнрованных представлений. Поэтому учение кугусортннцев считаем целесообразным определить как модернизированный вариант традиционной религии мари.
Косвенным свидетельством этого может послужить наличие трех толков (групп) приверженцев секты, отличающихся между собой не только степенью восприятия нового учения, но и сохранностью элементов
традиционной марийской религии.
Учение секты зародилось среди марийцев Яранского уезда, живущих в основном в южной его части. Яранский уезд в те годы преимущественно был представлен русским населением. Доля марийцев составляла
около 15%. Интенсивное культурное влияние русского населения должно было привести к утере марийцами своих традиционных элементов культуры. Однако ассимиляционные процессы, как показывает исследование
В.М. Васильева, происходили не везде одинаково. Приведенные В.М. Васильевым оригинальные предания свидетельствуют о том, что сектанты имели довольно глубокие исторические представления о своем прошлом.
Зафиксированные мифологические предания позволили автору книги сделать предположение о времени зарождения сектантского движения среди мари. Автор считал, что последователи третьего толка, в наименьшей
степени знакомые с учением секты,могли осознать себя как отличительная религиозная группа уже в XVIII веке, т.е. во время массовой христианизации народа.
Архивные материалы 1830-1840-х годов убедительно свидетельствуют: секта как учение зародилась в сороковых годах XIX столетия. Найденные
нами архивные документы свидетельствуют, что в деревне Солаял Зыковской волости Яранского уезда в 1840-е годы некий крестьянин Филипп первым выступил против проведения молений с
жертвоприношением. Его последователи, объединившись в так называемую «филиппову веру», отказались от поклонения ранее почитаемым древнемарийским божествам, керемету и возвели в ранг верховного
божества «Тӱҥ Тӱня Юмо» (Главное Всемарийское божество). Необходимо заметить, что подобные новшества можно было встретить в первой половине XIX века и у других финно-угорских народов, например
среди мордвы и удмуртов. Так, представители удмуртской секты «Вылечпырысы» (Вступающие в новую веру) выступили против кровавых жертвоприношений, отказались от употребления фабрично-заводских изделий.
В XIX веке светская власть к новым сектам относилась более или менее дифференцированно. Жестко преследовались лишь те новые религиозные объединения, которые заявляли о своем неприятии политики
государства и стремлении защититься от существующей социальной несправедливости. Поэтому лояльных к действующей власти сторонников «филипповой веры» никак не наказали.
Наиболее активно марийская секта развернула свою деятельность в семидесятые годы XIX века. Впервые всенародно об основании новой веры было объявлено Григорием Гавриловым в 1877 году во время моления
в д. Большая Рутка Яранского уезда. Согласно преданию, в этот день произошло солнечное затмение, которое вызвало переполох среди верующих. Свою веру марийцы назвали «верою предков»,
«подлинной верой», «истинно божьей верой», «чимарийской». В прошених, подаваемых Степаном Якимовым и другими последователями кугусортинской веры обер-прокурору Святейшего Синода (1879), Государю
Императору (1887, 1888), османскому султану (1891), Государя Наследника Цесаревичу (1893), Вятскому губернатору от имени крестьян Ернурской, Кадамской, Великоречинской и Юкшумской волостей упоминаются
и такие определения веры, как «древне-черемисская, язычно-инородческая религия», «изустно языческо-древнечеремисская инородческая религия», «древне бело-черемисская, изустно языческая», «потомственно
обычная вера» и лишь в начале 1890-х годов — «обряд Кугу Сорта». В своих прошениях крестьяне просили дать им официальное разрешение на проведение своих обрядов и обычаев, ссылаясь на то, что они
поклоняются древнемарийским божествам издревле. Однако согласно Российскому законодательству переход из православной веры в другую религию был категорически запрещен. Поэтому все их попытки в этом
направлении оказались тщетными.
Секта создавалась при участии наиболее продвинутой части марийского крестьянства. Открытые высказывания лидеров секты против местного духовенства, призывы к возврату старой веры, отказу от исполнения
христианских таинств, посещения церкви находили отклик у значительной части марийских крестьян. К 1890-м годам более 200 семей стали считать себя кугусортинцами.
Секта не имела своего единого руководителя. В разработке нового учения, его пропаганде и отстаивании основ учения принимали участие Григорий Гаврилов (д. Малая Рутка Юкшумской волости),
Степан Якимов (д.Люперсола) и Федор Карпов Алексеев (д.Шургумал Кадамской волости), братья Андрей и Тихон Алексеевич Якмановы (с.Упша Великоречинской волости),
Дмитрий Васильевич Столяров (д.Кӧрды Ернурской волости) и другие. Из числа активистов секты пятеро знали русскую грамоту, большая часть владела русским языком. Крестьянин д.Люперсола
Кадамской волости C.Якимов, в 1879 году написавший прошение на имя обер-прокурора Святейшего Синода о разрешении исполнять некоторые обряды, выделялся как человек «изворотливый и до дерзости смелый».
Дмитрий Столяров, в прошлом волостной старшина, занимался до своего разорения торговлей. Несколько человек, в том числе заштатный военный фельдшер Андрей Ятманов, были отставными солдатами в запасе.
Из этих данных видно: хотя секта и зародилась в крестьянской среде, однако ее основателями и первыми руководителями были лица по роду деятельности вышедшие за пределы этой среды. Видимо, вовлечение в
секту людей из различных крестьянских прослоек привело к тому, что на первом же всесектантском съезде в 1878 году новая вера распалась на два толка. Принципиальным пунктом разногласий стал вопрос об
отказе от жертвоприношений животных. Большинство присутствовавших на съезде марийцев не согласилось с этим предложением.
Местная власть, понимая возросший авторитет секты среди местного населения, в письмах, направляемых в высшие органы власти, предлагала применять в отношении к сектантам более жесткие меры наказания.
Ссылаясь на то, что члены секты отказывались посещать церковь, исполнять таинства, крестить своих детей и отпевать умерших, православное духовенство потребовало выселить кугусортинцев с их постоянного
места жительства. Установление опекунства над хозяйством сектантов, ссылка наиболее активных из них в Сибирь и ряд других административных мер воздействия на верующих способствовали ослаблению влияния
нового учения на крестьян.
В первой главе книги, посвященной истории секты, В.М. Васильев, излагая причины возникновения секты, отказа сектантов от проведения жертвоприношений животных, по-видимому, опирался на высказывания самих
сектантов. Разделы «О гонениях на секту», «Жизнь сектантов в ссылке» тоже были написаны на основе рассказов и воспоминаний А. и В. Якмановых.
В.М. Васильеву удалось довольно подробно зафиксировать особенности быта сектантов, праздников, культовых действий, семейных обрядов и т.д. Он, например, указал на наличие у кугусортинцев особого дома для
молений и бесед, сада для молений во дворе. Автор подробно описал способ добывания «живого» огня. Васильев отметил роль одежды в формировании религиозной идентичности. Известно, что отличительной
особенностью сектантов была белая одежда. Белый цвет, «как угодный богу», наделялся верующими особым символическим значением. В.М. Васильев обратил внимание и на отношение сектантов к женскому головному
убору «сорока». Сектанты по-своему трактовали значение и роль той или иной пищи. Описывая все эти детали повседневной жизни, автор книги не ставил перед собой задачу глубокого всестороннего анализа
значения и роли этих символов в формировании этнорелигиозной идентичности и сплочении последователей секты. В то время он видел перед собой задачу как можно подробно описать особенности культуры
кугусортинцев.
При характеристике религии важно обратить внимание не только на выполняемую ею функцию (мировоззренческие, идентификационные, экзистенциальные, нормативно-моральные, социально-мотивационные, культурные,
коммуникативные, интегративные и др.), но и на освещение содержания религиозного учения, его абсолютных философско-этических ценностей. В этом отношении В.М. Васильев одним из первых обратил
внимание на догматические положения секты. В этом, на мой взгляд, проявляется особая уникальность и большая значимость его работы. Важно учесть также активное участие сектантов при освещении этой темы.
Все это придаёт публикуемой работе еще большую значимость и интерес.
В.М. Васильев отметил, что в основу учения секты положена вера в единого бога. Показательно в этом отношении письмо сектантов, где отмечалось: «Наша вера есть только всевышнему пренебесному богу,
не позволяем себе поклонения какому-нибудь кумиру или предку, поэтому бог есть один и ни что-либо другое, а как только дух и находится выше нас, т.е. на небесах». Этого бога, как установил автор,
они представляли трояко, что соответствует христианской традиции. В понимании кугусортинцев отсутствует лишь представление о духе святом. Вместо него фигурирует образ великой матери-созидательницы
основы жизни. Единого бога кугусортинцы иногда, как и все марийцы, называли «Ош Кугу Юмо» (Светлый Великий Юмо). Единому богу приписывалось участие в творении мира, создании «семнадцати начал» —
повседневных творцов. Эти начала, по мнению сектантов, продолжили промысел божий, ежедневно продолжая традицию творения мира.
В этих характеристиках нельзя не видеть своеобразное осмысление христианского учения. О том же отмечал и В.М. Васильев. Он писал: «О творении богом мира и человека сектанты пересказывают в общих чертах
все библейские сказания с некоторыми весьма своеобразными изменениями».
Создаваемый пантеон божеств, как и у остальных приверженцев марийской веры, состоял из «высших» (небесных) и «низших» (земных) начал. К числу «высших» первоначал были отнесены образы почитаемых ранее
трех создателей — предопределителей («Пӱршӧ»), небесных сил: солнца, звезд, грозы, молнии, облаков, рождающей матери («Илыкш Шочын Ава») и пятницы (почитаемый марийцами день недели, кугусортинцы в
основном молились по пятницам, по-видимому, повлияли и религиозные представления русских крестьян о двенадцати пятницах церковного года и о Параскеве Пятнице). К числу «низших» — земных первоначал —
отнесен человек, точнее творящее человека испокон веков начало, руководящее и властвующее над ним. Остальные 6 «начал»: творческая первооснова конопли, хлеба, дерева, пчел, скота, трав, по мнению
сектантов, находились под контролем и влиянием человека.
Возвышение роли человека на Земле имело принципиальное значение для кугусортинцев. Человек или человеческое начало оказалось включенным в число семи земных божеств. Этим самым сектанты подчеркнули
важное значение человека в жизни природы. Тем не менее, сектанты не воспринимали человека равным богу, венцом творения, как это проповедует церковь. Человек оказался в одном ряду с природными силами земли.
В учении секты немало говорится о патриархах, пророках, святых. Христа сектанты называли величайшим пророком, но отрицали его божественное происхождение. Молиться святым, иконам они считали делом
греховным.
Утверждая идею творения, сектанты придавали большое значение одушевлению сил природы. По верованию сектантов, вся природа наделялась душой, считалась чистой и незапятнанной грехом, поэтому сектантская
этика требовала бережно обращаться с нею. Секта ратовала за утверждение в обществе добрых, гуманных отношений, установление в обществе социального равенства и сплоченности. Убийство, воровство,
прелюбодеяние, мошенничество, лживость, ссоры, безделье и другие человеческие пороки считались грехом.
Приверженцы секты «Кугу сорта» большое внимание уделяли восстановлению дохристианских культов, пытались устроить свою жизнь в духе веры отцов и дедов. Протестуя против царящего в обществе неравенства,
насилия, угнетения и эксплуатации, кугусортинцы хотели противопоставить злу, несправедливости и вражде между людьми высокие нравственные идеалы. «Кугу сорта» в первую очередь проповедовала утверждение
добра на земле, «т.е. делать людям то, чего себе желаешь» — писали сектанты. В одном из писем С.К. Кузнецову они отмечали, что истинным последователем кугусортинской секты считают только тех людей, в
«ком есть истинный пост (воздержанность по отношению к запретной пище. -Н.П.) и чистая совесть, любовь, незлобивость, прилежность к труду и воздержанность от всех слабостей...»
Стремясь возродить идеальное общество древних людей, преодолеть зависть, последователи секты «Кугу сорта» отказались от использования фабрично-заводских изделий, добивались простоты обстановки в доме,
употребляли только одежду из белого холста, соблюдали пищевые запреты. С целью получения предрасположения бога сектанты предлагали предостерегать себя от всех форм насилия по отношению к другим.
Секта пропагандировала идею честного труда, отвергала все формы эксплуатации. Пытаясь уничтожить все формы насилия на земле, они в 1907 году провели специальное моление.
Одним из главных моментов в отношениях между участниками моления была взаимная извинительная молитва каждого перед всеми молящимися. Единство в секте достигалось путем противопоставления себя
окружающим людям, внушением чувства принадлежности к народу с чистыми и добрыми помыслами («белому марийскому народу»). Яркое выпячивание своего национального происхождения и принадлежности к
сектантскому учению, а также утверждение равноправного и независимого положения мари перед другими народами (особенно русскими) было важным звеном в укреплении единства и солидарности в отношениях
между единоверцами.
Одной из отличительных особенностей учения секты является выборочное возрождение дохристианских культов. Это обуславливалось не только тем, что крестьяне из-за отсутствия письменных регламентаций
по поводу совершения обрядов постепенно забывали порядок их проведения. Другой немаловажной причиной сознательного отбора традиционных верований и обрядов являлось их соответствие выдвинутым социальным
идеям и идеалам. Кугусортинцы стремились утвердить в обществе социальную однородность, гуманные братские взаимоотношения. Поэтому они отказались от почитания «низших» духов, которые воспринимались как
проявления злой силы.
Аналогичное выхолащивание дохристианских культов наблюдалось и в отказе от жертвоприношений домашних животных и птиц. Сектанты выступали за уничтожение всех форм насилия, в том числе и по отношению
к животным, птицам, насекомым. Божье благословение, по мнению сектантов, можно было достичь и честным трудом во имя блага других.
В целях обоснования истинности своей веры, секта взяла на вооружение эсхатологические идеи о близком конце света. Секта учила, что Земля просуществует лишь 17 эпох. Свою жизнь кугусортинцы связывали с
девятой эпохой. В конце этой эпохи сектантов якобы ожидало вознесение к богу и вечное спасение от гибели.
Кугусортинцы считали, что все люди подвержены греху. Чтобы избавиться от них, предлагалось регулярно молиться, вести примерный образ жизни, бороться за спасение других. Согласно учению секты, каждый
человек может достичь божьего благословения, если он выполнял все общепринятые в секте требования. Только души честных людей, по мнению сектантов, навечно попадали к богу. Периодическое возвращение
душ умерших на землю, посещение родственников умершими сектанты не признавали. Поэтому они не проводили обряды угощения умерших.
Рассмотренные примеры учения кугусортинцев показывают, что участники секты попытались критически пересмотреть традиционные древнемарийские верования и культы. В изменившихся социально-экономических и
культурных условиях они считали важным отказаться от всех религиозных представлений и обрядов, компрометирующих народ, его культуру.
Пересматривая древние традиции, члены секты стремились приблизиться в культурном отношении к соседним народам. Разрабатывая основы нового мировоззрения, они продемонстрировали стремление к свободе от
православного идеологического гнета. Сектанты утверждали важность возвышения человека до уровня высшего земного начала. В учении кугусортинцев четко проявились гуманистические устремления, желание
утвердить в обществе человечность. Пересматривая древнемарийские верования, члены секты обратили внимание на необходимость повышения национального достоинства. Все эти примеры убедительно показывают,
что секта «Кугу сорта», хотя и была религиозной, но в своей идеологической основе стремилась внедрить в сознание своих приверженцев новое понимание жизни, достичь гармонии в мире.
На наш взгляд, марийцы, разрабатывая учение секты «Кугу сорта» пытались продемонстрировать свое стремление к возрождению некогда общепризнанной народом религиозной традиции. Кугусортинцы были уверены в
том, что возврат к старой вере позволит народу обеспечить его дальнейшее развитие, восстановить равноправное положение в обществе. Для достижения этого в условиях России, как они считали, необходима
культурная изоляция, т.е. организация своей секты. Однако изоляция не была самоцелью. В самом учении кугусортинцев, как мы уже имели возможность убедиться, немалое внимание уделялось пересмотру не
соответствующих времени культурных установок. Активные участники модернизации традиционного марийского религиозного учения понимали важность реформы марийской культуры. Им, как показывает исследование
В.М. Васильева, многое удалось осуществить. Все это свидетельствует о том, что культурная мобилизация интеллигенции, проявившаяся в начале ХХ века, имела глубокие корни в народе и началась уже в
70-е годы XIX века.
кандидат
исторических наук.
её толки и литература о ней.
Марийская религиозная секта под названием «Кугу сорта» (большая свеча) распространена сравнительно незначительно,
не говоря уже о том, что она ограничивается только марийским миром.
Чтобы иметь ясное представление о степени распространенности секты, следует отметить прежде всего совершенно
упущенный всеми исследователями момент в её содержаний, именно распадение её на три толка.
>
Первый толк — это самый чистый, так сказать, непогрешимый вид секты. Это толк секты из представителей
с аскетическим, подвижническим образом жизни, выражающемся в повседневной жизни в воздержании от курения
табаку, от употребления чая, спиртных напитков, некоторых овощей и злаков и продуктов промышленного производства вообще.
В религиозной области он отличается кроме изгнания кровавых жертв и молений низшим духам, самым точным
исполнением всех требований сектантских верований. В чём это заключается, будет сказано ниже.
Этот толк по численности самый малочисленный, насчитывающий всего лишь несколько десятков человек.
Он наблюдается по бывшему Яранскому уезду в следующих пунктах: с.Упша, М.Кугунур (Изинур), быв. Оршанской волости,
Кӧрдӧ, бывшей Ернурской волости, д. Сред.Турша (Туршулук) быв. Великоречинской волости, д.М.Рутка (Изи Рутка)
быв. Юкшумской волости, позднее Корляковской. По бывшему Царевококшайскому уезду: д. Ошламучаш-околод. Кабак сола, быв. Арбанской волости.
Второй толк тоже без кровавых жертв и молений низшим духам, но не с таким точным выполнением религиозных обрядов,
как первый и с образом жизни почти ничем не отличающимся от жизни других марийцев, исключая разве лишь изгнания
из круга домашних животных свиней и коз. Этот толк получился от первого, со времени ссылки сектантов в Сибирь
и тоже не может похвалиться особенной численностью своих последователей.
Он наблюдается в следующих пунктах: быв. Яранский уезд: дер.Кӧрдӧ, с.Ернур и Мал.Чирки быв. Ернурской волости,
Шургӧ-Иымал, Лужбеляк (Лужа-влак, Немдыж (Кыдал Нэмдыж), с. Пектубаево. Кокшан-мучаш) быв. Кадамской волости и
с. Упша быв. Оршанской волости, Тожсолинской вол. быв. Пижанской вол., быв. Сердежской волости.
Третий толк отличается от других язычников-марийцев только тем, что не признает молений низшим духам и в молитвенных обращениях
несколько приближается к первым двум толкам, но признает, как и другие марийцы, кровавые жертвы; во всем же остальном и в образе
жизни никаких отличий от других марийцев не имеет. Это наиболее многочисленный по числу последователей толк, насчитывающий их может
быть тысячами. Он наблюдается в следующих бывших волостях бывшего Яранского уезда: Кадамской, Ернурской, Тожсолинской, Сердежской,
Оршанской, Великореченской и Юшумской; в бывшей Арбанской волости быв. Царевококшайского уезда и в пределах бывшего Уржумского уезда.
Секта представляла в свое время весьма больной вопрос особенно для русского православного духовенства, бывшего одним из могущественных орудий
русского самодержавия в деле обрусения всех народностей нерусского происхождения вообще. Может быть этим и объясняется то обстоятельство,
что дореволюционная литература о кугу-сортинской секте, несмотря даже на незначительную ее распространенность, весьма внушительна, как в
количественном, так пожалуй и в качественном отношении. В то время, как в религии язычников-марийцев, которых надо считать сотнями тысяч,
очень небольшое количество значительных исследований, о кугусортинцах написаны десятки статей в журналах и газетах, и как оттиски из них
имеются также отдельные брошюры. Перечень литературы о кугусортинцах будет приведен в конце очерка.
Особенно оживленным периодом появления литературы о кугусортинцах являются годы 1890—93 т.е. время состояния сектантов в ссылке,
привлекшее всеобщее внимание по своей исключительности.
Из указанной литературы большая часть нами рассмотрена и проверена путём чтения с главными представителями секты братьями Якмановыми.
Большинство статей и брошюр о кугусортинцах представляет или весьма отрывочные сведения, касающиеся главным образом внешней стороны их
молений и образа жизни, с большой долей размышлений самих авторов и таких же выводов, или явное искажение существа секты, происшедшее,
как от недостаточности материалов для суждений, так и от слишком большого доверия к свидетельству других лиц, которые могли передать
извращённые сведения, также вследствие недостаточно ясных представлений о секте или из враждебных к ней отношений.
В своём очерке мы будем касаться только первого коренного толка секты и сопоставлять добытые нами сведения главным образом с сообщениями
Мошкова, Коблова и Кузнецова, т.к. все другие мелкие статьи представляют сообщения неточные, а некоторые, ещё хуже, являются просто компиляциями
из указанных необдуманных статей. Кроме того, большинство статей явилось несомненно из простой жажды к новостям вообще, из стремления, как говорят
«оживлять» печатный орган, а не из серьёзного стремления к изучению секты.
По вопросу о причинах возникновения секты находим в литературе объяснения весьма разноречивые:
Так, например, в безымянной статье под названием «Черемисская секта Кугу сорта» в .Ч» 251 за 1890 г. на странице газеты «Волжский вестник» читаем:
«Сектанты были совращены сначала в одну из беспоповщинских сект русского раскола, но неудовлетворённые ею, выработали своё учение».
Объяснение это нелепо уже по одному тому, что кугусортинцы ни с какими русскими раскольниками ни в какие общения не входили, следовательно
ничего от них не могли и заимствовать. Невероятность указанного объяснения подтверждается также и тем, что автор приводит его, как сообщение
русских соседей сектантов и местного духовенства, а ценность таких сообщений хорошо будет выяснена в дальнейшем нашем изложении.
Другое объяснение, тоже не менее маловероятное, находим на стр. 397—402 журнала «Жизнь», № 12 за 1900 г. в статье «язычество в Вятской губернии», где читаем:
«Известно не мало случаев фактической защиты черемисами своего культа, за что им приходилось пострадать... По всему мы имеем дело с религиозно-национальным
возрождением черемис; только возрождение это имеет слишком однобокий характер: выражается оно почти исключительно в защите столь печального факта, как языческий
культ» и далее, как доказательство указанного стремления к «возрождению» отмечается появление секты «Кугу сорта».
В этой же статье приводится мнение миссионеров об отношении последних к языческому движению вообще: «А сами миссионеры склонны видеть в язычестве связь
с «движением панмонголизма» и проповедуют о великой опасности от этого для государства. (Вятские епархиальные ведомости 1898 г. № 8).
Причина возникновения секты кроется с одной стороны в несоответствии кровавых жертв духовному росту последователей секты, с другой же - появление секты
есть протест против непонятного и навязанного православия, поглощавшего не только вполне понятное и достаточно удовлетворявшее в форме секты язычество,
но и национально-бытовые условия, устои марийцев.
Этот вопрос наиболее подробно выявится в дальнейшем изложении, в главах об основаниях учения секты.
Здесь же заметим об этом лишь вкратце. По представлению сектантов, кровавой жертвы даже физически нельзя выполнить без того, чтобы кровь жертвенного животного
не проникла в землю. Следовательно жертва, назначенная богу, будет оспариваться в этом случае духом земли.
Чтобы сохранить жертвенное животное от всякой скверны, потребовался бы для него совершенно исключительный уход: самый лучший корм, ограждение его от сорных
примесей и сохранение даже всего поколения данного животного от продажи посторонним лицам, т.к. продажа могла бы повлечь к использованию животного совершенно
противополезному дурное обращение, принесение в жертву низшим духам и т.д.
Затем самый акт приношения кровавых жертв, как прекращение жизни живого существа, есть насилие, зло, и это явление в глазах сектантов представляет, можно сказать,
целый парадокс: просить у бога прощения за содеянные злодеяния т.е. творить грех, который вновь придётся замаливать этим же способом и т.д. до бесконечности.
Следует заметить также, что перечисленные обстоятельства обусловливали во первых неизвестность, неясность секты для окружающего населения и во вторых невозможность
изучения её для исследователей.
Дело в том, что открытое исповедание секты, как бывало в истории со многими религиозными сектами, могло бы вызвать нежелательные для её последователей подозрения, насмешки,
даже преследования, что и получилось с сектой впоследствии, и т.д. Поэтому секта в начале исповедывалась тайно, причём сектанты, во избежание подозрений, наружно исповедывали
и язычество, а православные члены и христианство.
Несомненно также, что секта «Кугу сорта», как бывало со всякой сектой, оформилась не сразу. Но что представляла она в самом начале своего зарождения, сказать что-либо определенное
затруднительно, т.к. первые последователи её были люди неграмотные, и записей никаких после себя не оставили, а посторонним лицам секта могла быть известна не более, как некоторый
подозрительный факт и только.
Итак, время появления секты точно неизвестно. Начало её, разумея под ним самое зарождение, некоторые из сектантов относят к 70 годам XVIII столетия, а не XIX, как сказано у
Кузнецова (стр. 2—3.) Это лучше всего выяснится из родословия Якмановых, являющихся виднейшими представителями секты.
Сектантам нз предков Якмановых известен Тумат, марий, по преданию нз д. Нолю-Кукмарт, впоследствие Уржумский у. бежавший в Яранский уезд, спасаясь от насильственного крещения.
Сын Тумэта Якман, христианское имя которого было Яким, был крещён в 40 лет и через это остался от солдатчины. Якман и сын его Ефрем были двоеверы, т.е. были сектантами, исповедывая
одновременно, конечно наружно, и христианство; сын Ефрема Алексей был даже троевер, т.к. придерживался и чистого язычества. Сыновья его Тихон и Андрей являются уже, если можно так сказать,
чистыми представителями секты, по крайней мере с 90-х годов XIX в. Последние два брата уже тоже умерли: Андрей в январе и Тихон в июне месяце 1920 года. Что касается основателя секты или
вернее следовало бы сказать, оформивший её то С.К. Кузнецов со слов Жилина таковым считает какого-то, уволенного в бессрочный отпуск гвардейца (стр.З). Это не так. Очевидно Жилину секта и
основатели её были известны только по слуху. Да иначе и быть не могло, потому что с. Кичма и с. Веряужнур Уржумского уезда, где А. Жилин служил, отстоят от с. Ужны первое в 80—90 верстах и
второе в 50—60 верстах. О специальном посещении Жилиным сектантов в с. Упше также не может быть речи, т.к. по словам Якмановых, с ним они никогда не встречались. Затем в роде Якмановых никакого
гвардейца- солдата не было, да и среди всех сектантов первого толка о гвардейцах ничего неизвестно. Андрей Якманов действительно был на военной службе, но не был гвардейцем и служил не в
Петербурге, а в Казани, причём простым солдатом, был всего лишь 5 месяцев; потом поступил в военно-фельдшерскую школу при Казанском военном госпитале; через три года по окончании курса был
ротным фельдшером (1883—85 г.) и 6-го августа 1885 г. ушёл в запас.
Из других сектантов первого толка, современников Якмановых, известен крестьянин дер. Шӱргӧ-ймал, бывшей Кадамской волости, Фёдор Карпов (Качу Вӧдыр). Его называли также «Салтак Вӧдыр».
Он, правда был человек рослый и здоровый, но не был солдатом. Он был принят в дом, в зятья к дочери некого марийца Луки указанной деревни. Лука был старым гвардейцем; известно также что Лука был вообще
свободным от религиозных предрассудков и во всяком случае не был кугусортинцем. Даже больше: между зятем и тестем происходили споры по религиозным вопросам, в результате чего они разошлись и зять, построив
свой дом, ушёл врозь от тестя. Этот самый Ф. Карпов, будучи зятем гвардейца Луки, и получил странное для немарийского слуха прозвание «Салтак Вӧдыр», который отвечая на вопрос «Могай Вӧдыр - какой Фёдор»
означает не то, что он сам был солдатом, а то, что был в каких то отношениях к солдату; именно для марийского слуха это выражение означает просто «солдатов Фёдор».
Известно также, что и д.Шӱргӧ-ймал отстоит далеко от сс. Кичмы и Верх.-Ужнур, также весьма сомнителен факт знакомств Жилина и С.К. Кузнецова с Ф. Карповым и гвардейцем Лукой.
Из всего сказанного теперь нетрудно понять, что причиной заблуждения Кузнецова об основателе секты как о гвардейце могли послужить извращённые рассказы о Якманове или Карпове или о том и другом вместе,
причём выражение «Салтак Вӧдыр» могло быть понято им в указанном выше возможном извращении.
Говоря об основателе секты, следует заметить вообще, что нельзя указать на одно лицо, т.к. и бр. Якмановы, Карпов, и как увидим далее, Гаврилов, и Захаров (Смирнов) и ещё некоторые другие, — все в
известной мере являются основателями.
Мы выше заметили уже, что из боязни преследования секты исповедовали её тайно и обнаружить секту было трудно, потому что сектанты ходили в церковь и совершали свои моления, само собой понятно, что при
таком стеснённом положении секта не могла ещё определиться вполне. Не было определённости ни в обрядах, ни в молитвословиях. Одни ограничивались бескровными жертвами, другие приносили в жертву и животных,
как и прочие язычники. Бескровники проповедывали строгое воздержание от употребления табака, чая, спиртных напитков и некоторых продуктов питания, другие же не настаивали на этом.
Для разрешения всех указанных недоразумений был созван всесектантский съезд в сентябре 1878 года в д. Б.Рутке (Кугу Рутка), Юкшумской волости в доме крестьянина Прохора Федотова.
Туда съехались старшие сектанты из Кадамской, Ернурской, Юкшумской, Великоречинской, и др. волостей, числом около 30 человек, а с пришедшими из прилегающих к Б. Рутке деревень собралось всего
около 60—70 человек. На этом съезде, продолжавшемся несколько дней, при участии как мужчин, так и женщин, происходили моления, совещания и горячие прения об основаниях секты. Но, несмотря на все
старания, участники съезда не могли прийти к соглашениям, и секта распалась на два толка: на коренных последователей, положивших в основу только бескровные жертвы с указанным выше почти аскетическим
образом жизни и других, допускавших и кровавые жертвы с образом жизни почти таким же, как и прочие язычники.
Немногие могли выполнять строгие правила коренных кугусортинцев, и потому их оказалось в первое время меньшинство, численностью до 115 дворов, причём из этого числа, при возникшем вскоре после того
гонении, осталось только 19 дворов.
На съезде всё же постановлено было объявить секту «Кугу сорта» открыто существующей. Весть о новой вере быстро распространилась по марийскому миру. Хотя сектанты и не предпринимали никаких усилий по
распространению своей веры, число их последователей стало увеличиваться. О привлечении в свою веру сектанты не заботятся потому, что искренне верят, что если богу угодно, то всякий новый член сам
придёт к ним без всякого призыва. Истинная же причина успеха в распространении секты заключалась в простоте учения и скромной жертве, ограничивавшейся приношением воска, хлеба н некоторых приготовлений
из мёда.
Наряду с постепенным оформлением секты развивались обоснования её и исторического характера. Обоснования эти, в которых чем они древнее, тем труднее отличить действительность от вымысла,
представляются в следующем виде.
Зарождение секты, но с основанием не первого, а третьего толка, относится к самым отдалённым временам. По преданию в области нынешнего Кронштадта жил богатый марийский князь по имени Кронша. У него
был штат слуг до 70 человек. Непризнанный своим народом, как религиозный реформатор, он совершал моления со своими рабами, вознося в первые молитвы по третьему толку, т.е. только высшим духам.
Преемником его была женщина Цылтий. В период её княжения в области нынешней Москвы жил другой марийский князь Канай. Цылтий просила помощи у Каная для совместных действий против шведов.
Но Канай не поддержал. Цылтий была разбита шведами и взята в плен.
Спустя некоторое время Канай и сам был покорён, но не шведами, а русскими. Подвластные Канаю марийцы направились к востоку от прежних мест обитания и поселились в пределах бывшей Казанской и частях
Вятской губерний.
В позднейший период жизни марийцев здесь в местности около дер.Варангуш, современного Моркинского кантона Маробласти, была известна некая Татьяна. Но она выделялась уже более, как
предводительница религиозного движения.
Из других районов известна дер.Колыгудо бывш. Конганурской волости, где по преданию жил некий Фаддей. Ему приписывается уже отрицание кровавых жертв. Дер.Колыгудо находится приблизительно
в 10 верстах от дер. Ноль Кукмарий, откуда, как было уже сказано выше, бежал предок Якмановых Тумэт. Внуку Якмана Алексею Ефремову приписывается также связь с вышесказанным Фаддеем,
с которым они устраивали совместные моления. Фаддей был даже арестован за это, причём это обстоятельство подавило на время религиозное движение.
После Фаддея религиозное движение связывается с именем крестьянина дер.Солоял за Яранском, неким Филиппом, которому свыше и было указано сменить кровавые жертвоприношения приношениями
из свеч и хлебных злаков. Филипп изготовил 700 восковых свеч, но застращённый священником с.Сердеж, не решился осуществить реформу веры. Наоборот, он сделался даже восприемником ребёнка
у сказанного священника, чтобы показать раскаяние и преданность христианской вере. За это малодушие Филипп клеймится сектантами, как изменник. Однако он видимо не был таковым в полной мере, так как перед
смертью завещал домашним, сказав следующее: «Кыргорий лӱман йэҥ, саска дэнэ кумалшэ лэктэш: тудлан орлыкым чытэн сут коч пунчалалт илан лэкташ вэрэштэш; тидэ сортам тудлан пуза.
— Явится человек по имени Григорий, который будет молиться свечами; ему предстоит претерпеть мучения и судебные преследования, эти свечи отдайте ему».
Смерть Филиппа датируется приблизительно 70-ми годами XIX столетия.
В 1877 году в дер. Б.Рутке, Юкшумской волости, Яранского уезда было организовано грандиозное моление марийцами указанной деревни Никитой и Герасимом. Молящихся было до 700 человек.
Бывший на означенном молении крестьянин дер. Мал.Рутки Григорий Гаврилов, сложив из дров клетку (кара-цура), поднялся на неё и произнёс агитационную речь о смене кровавых жертв на
моление со свечами. В момент произнесения речи произошло солнечное затмение и пока оно продолжалось, слушатели испытывали страшное смятение, одни колебались принять учение, другие готовы были объяснить
даже самое затмение речью проповедника. Но вот затмение прошло солнце вновь просияло, слушатели вздохнули облегчённо, и большинство молящейся массы приняло новое учение. Тогда же было устроено
торжественное моление со свечами, причём оно было названо всемарийским и т.к. свечей для всего народа приготовить не было возможности, то взяли несколько ржаных снопов, сделали для них восковую оболочку
и поставили в виде большой свечи. С этого времени и началось моление исключительно со свечами и приношениями из хлебных злаков, и притом в одежде отменно белой в сравнении с той, какая употреблялась
для обычного ношения.
Возникает ещё один интересный вопрос когда же секта стала называться «Кугу сорта». Сектанты 1-го и 2-го толков называют свою веру «Йӱмын вийакш вэра» — букв, божья прямая (правильная) вера. И поскольку
секта представляется организацией воинствующей со всем нечистым, злым, безнравственным, вообще со всем отрицательным, то каждый член секты, по объяснению вожака Гр. Гаврилова, на вопрос «кто ты такой?»
должен называть себя «Йӱмын салтак улам». — «Я божий воин». Название же секты «Кугу сорта» получилось от того, что миссионер Н. Романов в числе первых стал называть её указанным именем в насмешку над
сектантами. Это относится к 1890 годам, т.е. ко времени наиболее сильного гонения секты. До этого же времени названия «Кугу сорта» ни для этого толка, ни для других не было. О втором толке говорить особо
не приходится, т.к. он идёт за первым. Третий же толк стал называться именем «Кугу сорта» главным образом со времени ссылки сектантов и вообще со времени гонения их.
На появление секты духовенство не обратило сначала должного внимания. Когда же сектанты один за другим совершенно не стали посещать церковь, крестить детей, венчаться и отпевать покойников
по-христиански, а также отказались платить за требы и ругу, то духовенство было очень серьёзно встревожено появлением секты. Но было уже поздно: секта оказалась настолько окрепшей, что все меры,
начиная с увещеваний духовенства и кончая судебными процессами и даже ссылкой в Сибирь, как увидим дальше, могли лишь несколько ослабить влияние секты на других, приостановить развитие её, но не
могли её окончательно уничтожить. Увещевания не достигали своих целей потому, что духовенство, не зная сущности секты, действовало мерами запрещений, пресечений, а о репрессиях известно, что они
вообще не годятся, особенно в делах веры, и только озлобляют и развивают фанатизм, как было например в своё время с русскими раскольниками.
Собственно, духовенство вначале и не думало о применении гуманных мер воздействия на сектантов. Оно считало, видимо, достаточным ограничиться лишь доносами. Так например, по доносу в октябре 1878
года урядник Унжаков при содействии полицейских, десятских, вооружив их обломками кирпичей, осадил дом крестьянина дер.Б.Рутки Прохора Федотова во время моления. Выбив окна и проникнув
в дом, сорвал моление сектантов, опрокинув молитвенный стол со свечами, хлебами и проч. приношениями. Сектанты ни на минутку не сомневались в своей правоте и потому паралич, разбивший урядника вскоре
после этого, они прямо приписали наказанию божию. Федотов с участниками моления подали было жалобу на урядника, но за смертью последнего дело было прекращено.
После этого сектанты ещё более замкнулись в себе, показывая даже вид, что они исповедуют христианство. С другой стороны и в преследовании их наступило затишье, которое продолжалось впрочем, недолго.
Как бывает во многих обстоятельствах, и здесь решающее значение оказали взаимоотношения экономического порядка.
В 1889 году после родов умерла жена Якманова. Через шесть дней умер и ребёнок. Хоронить по-кугусортински не разрешали, а Якманов не
соглашался на христианские похороны. Наконец Якманов похоронил всётаки по своему. Дело даже было передано на суд, но последний каким-то образом не состоялся.
Из последних фактов явствует, что секта окончательно укрепилась лишь к 1890-м годам. К 1890 году между прочим относится и другой уже более активный вид демонстрирования сектантами своей веры,
выразившийся в представлении предметов религиозного культа и моделей на Казанскую научно-промышленную выставку. За экспонаты сектантам было выдано всего шесть похвальных листов и две бронзовых медали.
Такое внимание несомненно окрылило сектантов, и они стали решительнее в своих отношениях с духовенством и всеми, кто пытался удерживать их в христианстве. Духовенство, главным образом в лице миссионера
по Яранскому уезду священика с. Кугу-Шӱргӧ Романова, чувствовало, что оно теряет под собой почву и, не надеясь собственными усилиями вернуть сектантов в православие, сообщило о сектантах
в Вятскую Духовную Консисторию. Последняя в свою очередь передала дело в окружный суд 13 декабря 1890 г. за № 13391.
Окружной суд 8 мая 1891 г. постановил сектантов Тихона и Андрея Алексеевых, Ивана и Игната Якмановых на основании 185 ст. улож. о наказаниях и З п. 771 ст.уст.уг.суд. отправить к духовному начальству
прежнего их исповедания для увещевания и вразумления, а до возвращения в христианство воспретить им пользоваться правами состояния, взяв имение их под опеку возложив судебные издержки на них же.
Сектанты обжаловали приговор в Казанскую Судебную Палату, которая однако 26 октября 1891 г. утвердила решение окружного суда.
То же было и с другими сектантами.
Всех дел за время 1890—1892 г. было рассмотрено 14 и привлекалось до 25 человек.
Опекунами над имуществом осужденных сектантов были назначены по указанию священника с. Упши Решетова, русские крестьяне из соседних деревень, понятно, из лиц нисколько несимпатизировавших сектантам.
С опекой над имуществом сектантов начались для них настоящие мытарства. Опекаемые решительно ничем не могли распорядиться самостоятельно; каждый день они должны были просить разрешения, чтобы распорядиться чем-либо из своего имущества, для чего некоторым из них приходилось ходить за 7—8 вёрст. Опекуны же, старались возможно усерднее исполнять возложенное поручение, чтобы обратить «заблудших» на путь «истинный».
Одновременно с воздействием опекунов делались увещания и со стороны духовенства, но без особенных результатов. В прочем следует отметить, что не все сектанты имели твёрдость переносить указанные
мытарства и часть их вернулась в православие: одни — во время следствия и суда, другие после суда, не выдержав мытарств, связанных с опекой над имуществом. Но отказ их несомненно не был вполне искренним,
т.к. в благоприятный момент они вновь возвращались в свою секту.
Увещевания сменялись такими ненадёжными мерами воздействия, как отобрания свеч, одежды, посуды и других предметов, употребляемых на молениях. Так, например, 18 декабря 1891 г. становой пристав
стана Яранского уезда с низшими полицейскими чинами наехали в дер. Ср.Немдыж к крестьянину Яндыманову, у которого хранилась большая часть богослужебных предметов секты. Несмотря
на протесты сектантов полицейские власти отобрали у сектантов имущества стоимостью до пятисот рублей. Все указанные вещи, видимо, были доставлены в Вятскую духовную консисторию, из которой сектантам
выслали копию описи отобранного при отношении от 27 апреля 1892 г. за № 4902.
На это явное насилие, попрание самих элементарных прав, сектанты подавали несколько прошений чуть ли не во все высшие учреждения того времени и на все получили отказ. Нам известно всего 68 официальных
документов с разными датами 1890—1911 годов, представляющих большей частью отрицательные ответы разных учреждений или отписку вообще на прошения сектантов о снятии опеки с их имуществ, возвращения
отобранных богослужебных предметов, в возвращении из ссылки, о разрешении образовать религиозную общину и. т.д.
Ревнители православия не брезговали даже такими явно преступными средствами, как клевета, ложь и. т.д. Например в 1892 г. когда умер отец Якмановых Алексей от крупозного воспаления лёгких, сыновья его
Тихон и Андрей были заподозрены в отравлении. Однако на следствии обнаружилась невинность сыновей, и дело было прекращено.
Испробовав все меры воздействия на сектантов и изверившись, очевидно, в их силе, решили наконец совсем избавиться от них. Оставалось одно: удалить сектантов, чтобы они не влияли на других марийцев.
Так и сделали. Долго не соглашались односельчане на удаление их из своей среды, т.к. сектанты были безусловно честны, трезвы, все повинности несли аккуратно и вообще ничего предосудительного за ними не
было. Но несмотря на это, дело было улажено, и приговоры об удалении сектантов были составлены на основании 2 ч. 51 ст. общ. полож. о крестьянах. Сектанты удалились, как распространители зловредной и
противоправительственной секты. Все приговоры были утверждены Вятским губ. присутствием.
Из сосланных только Якмановы подали жалобу в Правительствующий Сенат на постановление Губернского Присутствия. Но постановление Губ. Присутствия обжалованию не подлежало, и Сенат 13 декабря 1893 г.
оставил жалобу Якмановых без рассмотрения.
Из разных деревень всего было сослано 14 человек. Собственно приговоры о ссылке составлены лишь для 10 лиц, а четверо последовали, как члены семейств.
Для характеристики отметим некоторые моменты из пути следования сосланных в ссылку. По дороге к г.Яранску сектантам пришлось ночевать в с. Кугу-Шӱргӧ. К сектантам явился всё тот же
миссионер священнник Н. Романов. Дело было 16-17 апреля. Апрель в том году был холодный. Сектантов босых вывели в холодное помещение и под предлогом увещевания продержали там 1,5 часа. Миссионер
предлагал сектантам согласиться, хотя бы только на крещение, венчание и похороны, обещая в остальном свободу. Сектанты остались непреклонными.
По прибытии в Яранск сектанты вновь подверглись увещеванию, но уже со стороны представителя гражданской власти — земского начальника 5 уч. Воротникова, который также обещал им свободу, если они
откажутся от своих религиозных убеждений. Наконец, продержав сектантов несколько дней в пересыльной тюрьме отправили на новое местожительство в Сибирь.
В Сибири сектанты жили в трёх местах: в Мариинском и Каннском округах Томской губ. и Ишимском округе Тобольской губ. Занимались они, кто чем мог: весной и летом токарным ремеслом, косили, жали, осенью
собирали кедровые орехи, по зимам катали валенки и т.д. Трудолюбие, скромность и честность сектантов скоро завоевало им всеобщее уважение, и благодаря сочувствию окружающих, они материальной нужды не
испытывали. Там же в местах жительства они приписались в число крестьян.
Между тем как ссыльные устраивались на новых местах, здесь на родине продолжалась та же картина: ссылка, искоренения секты и насаждения православия среди оставшихся. Сектантов против воли приводили в
церковь на богослужение, крестили, ставили в дома их иконы, ходили к ним с молебнами и т.д. При этом сектанты за сопротивления подвергались даже истязаниям и в довершение их же предавали суду.
Так например осенью 1893 г. дочь Якманова Антона, Матрёна 20 лет, была посажена на четверо суток за удерживание сестёр от школы. Другой раз она же приговорена по суду земского начальника на 15 суток
за похороны по-кугусортински сестры Степаниды. В действительности же приговор был вынесен якобы за оскорбление урядника. Наказание отбыла в 1894 г. весною в г. Царевосанчурск.
Далее по предложению священника с. Упши И. Решетова 8 июля 1893 г. опекуны над имуществом Якмановых, Ф.Гловин и Я.Шариков с полицейскими десятскими вывели из дома 70 летнюю старуху мать
Тихона Якманова Марину с внуком Фёдором б лет, и опекуны над имуществом Андрея Якманова крестьянин с. Упши Алексей Белоусов и Василий Халявин вывели дочь Антона Якманова Матрену 20 лет, повели в церковь
к обедне. При этом мальчика тащили за шиворот, а женщин за косы, в результате чего у последних были выдраны целые пряди волос, и получились кровоизлияния. Женщин удержали и доставили в церковь, где их
отворачивавшихся от икон обращали лицом к последним силой и заставляли их, беря за руки, делать крестное знамение. Домой отпустили их лишь по окончании обедни, при чём обессиленных от избиений их пришлось
доставить в дом почти на руках.
Мальчику Фёдору, которого намеревались окрестить дорогой, удалось вырваться, убежать в поле. Но через год с небольшим в конце сентября 1895 г. указанный мальчик всё-таки был окрещён при отчаянных
сопротивлениях, в доме отца в кадушке, причём священник Решетов, не смогши крещаемого окунуть в воду, произвёл над ним обливание из пригоршней.
В апреле 1902 г. тот же Решетов с диаконом, опекунами и церковным сторожем пытались войти в дом Тихона с пасхальным крестом. Но Василий при входе Решетова в ворота, с такой силой пнул его, что тот
буквально перевернулся вверх ногами и крест вылетел из рук.
За этот отпор Василий был осужден земским начальником 5 уч. Яранского уезда Воротниковым на 0,5 года, но по жалобе в Яранский уездный съезд, наказание было снижено до 10 дней, каковой срок осуждённый
и отбыл в Царевосанчурске.
И после таких решительных отпоров, насадители благочестия всё же не оставили сектантов в покое. В 1902 г. урядник Леонтьев с десятскими и опекунами пытался поставить икону в дом Антона Якманова, но дочь
последнего Матрёна предупредительно заперла ворота. Осадившие полезли по лестнице во двор и через окно проникли в дом, но Матрёна взяла икону и выбросила во двор, за что её тогда же арестовали и икону
вновь поставили в комнате. Мачеха последней Варвара Троф. Якманова после ухода полицейских чинов взяла икону, пошла за ними в дом Агаф. Троф. Якмановой, куда те направились также с иконой и незаметным
образом всунула икону за пазуху одному из опекунов, принимавшем участие в этих хождениях.
Подобных случаев было несколько. Из приведённых фактов вполне можно понять, насколько сильно были терроризованы сектанты духовными и гражданскими властями. Каждый праздник, каждая тревога вроде,
например звонка колокольцев проезжающих, заставляли их скрываться во дворе или даже покидать свои дома и убегать в поле, в лес или в соседние деревни, главным образом в дер. Ошламучаш.
Кроме мер «миссионерского» воздействия сектанты испытывали всевозможные притеснения экономического характера. Выше было уже замечено, что сектанты ничем из своего имущества не могли распорядиться
самостоятельно. Понятно, что в этих целях всё имущество и надворные постройки, т.е. амбары, клети кладовые и молитвенные дома были заперты и опечатаны опекунами. При этом сектантам всё выдавалось с весу;
хлеб, например не более 30 фун. за раз и потому приходилось обращаться за разрешением каждую неделю, даже через каждые три дня.
Ульи сектантов ежегодно опечатывались перед подлазываньем пчёл. При этом опекуны при подлазывании уносили мёд к себе, а хозяевам давали лишь после освящения нового мёда в церкви.
Однажды у Василия Якманова заперли железным засовом двери конюшни и хлева, где стояли лошадь и корова и хозяева принуждены были пролезать для дачи корма под железный засов, а для пользования своей
лошадью каждый раз брать у опекунов разрешение и в таком положении продержали лошадь и корову с 6 января по 13 апреля 1904 года.
Все перечисленные «просветительные» меры с разными оттенками применялись и другими опекунами по отношению к своим опекаемым.
Опека с имущества сектантов не снималась вплоть до конца апреля 1906 г. Она была снята только с имущества вернувшихся в православие сектантов. Не смотря даже на закон о свободе совести от
17 апреля 1906 г., по которому опека автоматически уже прекращалась, опекуны не снимали своих печатей. Тогда некоторые из сектантов, как например Василий и Тихон Якманов, сами сорвали печати и стали
пользоваться имуществом по собственному усмотрению.
Само собой понятно, что при таких отношениях к имуществу сектантов, не могло быть и речи о развитии их хозяйств. Даже больше наблюдались случаи не развития, а совершенного уничтожения хозяйств.
Например, в деревне Б.Орше Ернурской волости дом сектанта Фёдора Филиппова в виду полного отсутствия хозяев, был совсем опечатан опекуном крестьянином деревни Гусевой Ернурской
волости Елисеем Жировым. Жиров расходуя имущество Филиппова, якобы за хранение, в конечном счёте совершенно расточил его: распродал всю домашнюю утварь, скот, запасы хлеба и, наконец, самый дом
с надворными постройками. Филиппову не было дано от выручки ни гроша и он по возвращении из ссылки едва сумел взыскать с Жирова через Вятский Окружной Суд такую ничтожную сумму, как
250 руб., тогда как имущества у него было даже при минимальной оценке более, чем на тысячу рублей.
Через три года после ссылки, в 1896 г. по манифесту 14 мая получили разрешение вернуться на родину без права жительства в Яранском уезде.
Вернувшись на родину, сектанты прежде всего навестили родных в своей деревне, где оставались их дома и всё имущество. Но через четыре дня по доносу духовенства их отправили к приставу З стана Яранского
уезда. Последний передал дело на суд земского начальника 5 уч. Яранского уезда, который присудил сектантов за переход запрещённой границы к четырём суткам ареста, и сектанты высидели это в заштатном
городе Царевосанчурске. Оттуда их отправили в г. Царевококшайск. Так было поступлено с братьями Якмановыми. Не имея никакой работы в последнем городе, они просили у местного исправника разрешения
поселиться в дер.Ошламучаше, б. Царевококшайского уезда где они и прожили явочным порядком полтора месяца. Сектантам разрешено было жить недалеко от Царевококшайска в Нужяльской
мельнице, но Яранское духовенство запротестовало против этого, и после полуторамесячного пребывания сектанты опять принуждены были вернуться в Царевококшайск. Все другие сектанты по возвращении из
Сибири поселились в этом же городе.
Получив отказ поселиться поближе к родным деревням, сектанты сделали несколько попыток просить о наделении их землёй, а потом о приписке к разным обществам, но их попытки успеха долго не имели.
Так, 16 июля 1877 г. они подавали прошение в Казанское Губерн. присутствие об отводе им 150 лес. земли для образования отдельного выселка. Понятно, Губ. присутствие отказало им за «неимением»
свободных земель.
Затем сектанты просились в мещанские общества: Царевококшайска, Казани, Мариинского посада и Чебоксар, но нигде их не приняли.
И только по просьбе 17 сентября 1891 г., т.е. почти через 3,5 года по возвращении из Сибири сектанты были приняты в число безземельных крестьян по Арбанской волости.
На новом месте жительства в г. Царевококшайске сектанты опять занялись, кто чем мог: мелкой торговлей, стекольщиками, сторожами и т.д.
Оправившись несколько, они выписали своих семейных и поселились в подгородней деревне Вараксиной. Здесь они жили безвыездно до самого возвращения в родные деревни.
Наконец 25 апреля 1906 года, т.е. только через 13 лет изгнания, сектанты вернулись на родину. Правительствующий сенат, который в 1893 г. считал постановление Вятского губ. присутствия о высылке
Якмановых за религиозные убеждения не подлежащим обжалованию, этот же сенат и конечно под влиянием освободительного движения признал, что «крестьянские общества не вправе удалять из своей среды
однообщественников за их религиозные убеждения» и 22 марта 1906 г. «Постановления Вятской губ. присутствия от 23 марта и 15 июля 1893 г. об утверждении приговоров Упшинского и Юкшумского обществ
об удалении крестьян Якмановых и Гаврилова за принадлежность к секте «Кугу сорта» отменить.
Таким образом вернулись и все другие сектанты и вновь все были приняты в свои же общества.
Возвращение сектантов в свои общества было не по сердцу прежде всего конечно духовенству, а затем и всем приспешникам его — опекунам и «ревнителям» православия вообще. И все эти враждебные для сектантов
силы пытались вновь организоваться, чтобы склонить общества к составлению приговоров о вторичной высылке сектантов; но все их старания успеха уже не имели. Абсолютно трезвая и примерная жизнь сектантов
легко парализовали все козни их врагов и таким образом даже враждебно настроенные соседи стали относиться к ним с полным уважением. Сектанты обезоруживали своих врагов не только примерным поведением и
прилежанием к работе, но так же и незлобием.
Здесь нельзя не отметить ещё одного удручающего момента в жизни сектантов. В результате пережитых ими гонений и мытарств, за долгие годы ссылки, у них воспитался какой-то особенный страх перед всяким
посторонним и такая же замкнутость в религиозной жизни вообще. Поэтому об откровенных беседах с ними о их вере не может быть и речи. Даже с лицами вполне сочувствующими им, так сказать вполне безопасными,
они не говорят обо всех религиозных истинах и обрядах, боясь конечно насмешек и возможного, может быть по их мнению, преследования со стороны врагов. Проникнуть же на самое моление их ещё труднее.
Например, мне лично удалось получить доступ на подлинное моление лишь после очень продолжительного знакомства с сектантами.
Дело обстояло так. После предварительного обмена письмами несколько раз я посетил сектантов в июне 1916 г. совместно с фотографом — любителем, учителем образцовой школы при Казанской учительской
семинарии Е.Б. Буртаевым. Несмотря на то, что мы ездили к сектантам по их же приглашению и прожили целую неделю, проводя всё время в беседах, в целях изучения секты, мы не были удостоены видеть
подлинное моление, и могли сфотографировать лишь инсценировку домашнего моления. Затем в первых числах января 1917 г. А. Якманов приезжал в Казань специально для совместной проверки печатной литературы
о секте. На это посвящено было нами целых девять дней. Кроме того, через меня же по просьбе сектантов были изданы в Казани их главнейшие молитвенные тексты два раза: в 1917 г. и 1918 г. И только после
этого, когда я вновь посетил Якмановых осенью 1919 г. уже один, когда видимо, сектанты совершенно убедились не только в «нестрашности» моей, но и доброжелательстве, они допустили меня на одно из
семейных молений в Упшинской их роще, понятно, после соответствующих омовений всего тела и притом полностью в их молитвенной одежде, т.е. и нижней и верхней.
О современном состоянии секты в отношении первого её толка можно сказать следующее.
В догматических основаниях первый толк остаётся прежним, но в обрядности претерпевает некоторые изменения. Но подробно об этом будет сказано ниже.
В отношении количества членов указанный толк не увеличивается, скорее уменьшается. Причина понятна: почти аскетически строгие правила могут выдерживаться главным образом пожилыми, молодое же поколение
если ещё и придерживается их, из уважения к старшим и родителям, то на стороне уже мало с ними считаются. Поступления в секту новых членов со стороны, тоже не наблюдается. Таким образом первый толк
секты увеличивается количественно, лишь за счёт прироста семейств прежних его членов.
Тоже самое можно сказать и относительно второго толка.
Что касается третьего толка, то даже по имеющимся у нас, правда незначительным материалам, можно сказать, что он, хотя и медленно, но растёт, своеобразно оформляется и изменяется. Рост этого толка
объясняется тем, что он представляет большое опрощение язычества, в смысле сокращения целого штата низших духов, с которыми простолюдину-марийцу вечно приходится считаться, как с насылателями несчастий,
болезней и т.д. Затем он подкупает, как замечается в последнее время, опрощением и в отношении кровавых жертв, именно среди некоторых представителей его ограничиваются уже приношением в жертву только
гусей и уток.
Говоря о влиянии секты, в данном случае первого толка, отметим ещё и о значений ореола мученичества сектантов в жизни марийцев вообще. В этом отношении авторитет секты так велик, что неизвестному для
данной местности постороннему посетителю достаточно заявить, что он «кугусортинец», сказать, что он потомок такого то видного сектанта, чтобы воспользоваться и подобающими почестями и выслушать
соболезнования по поводу перенесённых кугусортинцами страданий.
Внешний быт сектантов при беглом взгляде не производит впечатления чего-либо особенного. Как внешнее, так и внутреннее устройство домов и надворных построек в общем такое же, как и у других марийцев.
Как на главное отличие, можно указать на то, что почти у каждого сектанта два дома, в одном из которых он живёт, а другой служит для религиозных целей: для молений и бесед. Но те у кого только один дом,
то и моление устраивает в нём же. И ещё как на отличие, следует указать, что у некоторых сектантов имеется во дворе огороженный кругом сад для молений (кумалмэ пичэ).
В отношении утвари у сектантов заметно во всём стремление к примитивности и нет ничего фабричного-заводского за исключением чугуна, некоторых железных изделий и стёкол на окнах, которые допущены
в обиход в виду невозможности заменить их другим материалом, всякая краска также тщательно изгнана из употребления.
Входя в дом, вправо или влево от входной двери замечаете обыкновенную печь, выложенную, смотря по удобству размещения, без всяких украшений. Вдоль стен по левую или правую сторону от печи и прямо
против дверей идут скамейки, и повыше окон параллельно скамейкам понаделаны полки, на которых выделяются гусли, обычно не менее трёх, которые употребляются во время молений и бесед. На полках же и
отчасти на скамейках складывается посуда, почти вся деревянная и притом изготовленная самими сектантами.
Следует заметить вообще, что почти вся простая домашняя и сельскохозяйственная утварь, одежда, обувь и т.д. приготовляется самими сектантами.
Прямо против дверей в переднем углу вы заметите липовый или берёзовый стол с таким же стулом, но над столом уже не увидите обычной, как у других марийцев, висячей лампы, потому что ни спичек,
лампы и керосина сектанты не употребляют. Летом они обходятся без всякого искусственного освещения, а зимой жгут лучину, обычно берёзовую, втыкаемую в светец (изык), который, кстати сказать, почти
ни у каких других марийцев уже не употребляется.
Из культурных способов освещения употребляют впрочем свечи сальные, стеариновые, обычно для хождения с фонарём по хозяйству, т.к. лучина и светец для этих целей крайне опасны в пожарном отношении.
Огонь добывается при помощи трения деревянного бруска о пест или другой кусок дерева (и то и другое берёзовые). Он добывается, как для молений, так и для хозяйственных целей, обычно тремя лицами,
из которых двое трут пест, втыкаемый в отверстие, устраиваемое большею частью в печке у шестка или в другом месте, третий поддерживает другой конец песта, имея в руках приложенные к месту трения два
куска трута, на который принимается так называемый живой огонь. Затем тлеющий трут увёртывают в пеньковые волокна, которые разжигаются путём размахивания и наконец отсюда огонь берётся на берёзовую лучину.
Так вздувается огонь для моления, но для обычного употребления получают его сжимая трут между двумя кусками угля и дуя на этот трут.
Приспособление для добывания огня хранится в переднем углу избы. Так как добывание огня дело довольно хлопотливое, то им дорожат и сохраняют его в печке или в горнушке, устраиваемой сбоку налево или
направо от шестка.
Легко себе представить как велика должна быть копоть в избе от лучины, сжигаемой в длинные зимние вечера, вся копоть, конечно, оседает на стены и потолок. Однако это не делает ещё сектантов
нечистоплотными, потому что стены, по крайней мере ниже полок (оҥаӱмбал) тщательно и довольно часто подскабливаются и моются. С потолка сажа также вытирается тряпками.
Пол тоже обычно всегда чисто вымыт. По стенам на вешалках, представляющих большей частью вбитые в стену деревянные колышки, развешивается одежда, вся белая или светло-жёлтая.
Недалеко от песта на стене вешается кусок холста длиной около аршина, которому придаётся значение духовной чистоты сектанта. Таких отрезов имеется семь штук по числу дней недели, но они сменяются
не каждый день, а через каждую неделю.
Соответственно простоте всей обстановки в комнате царит первобытная патриархальная тишина. Редкость услышать несмолкаемый шум детей, песни, пляску или игру бесшабашного характера на каком-либо инструменте
и даже дети обычно заняты каким либо делом.
В одежде сектанта замечается отпечаток всё той же простоты и скромности. С головы до ног весь белый, сектант резко выделяется среди других одноплеменников. И в одежде также почти совсем отсутствуют
фабричные элементы и крашеные части, исключая лишь вышивок на рубашках и платках, представленных впрочем в самых незначительных размерах. Всё на нём (в том числе и вышивки) собственного или вообще
крестьянского производства.
Зимой мужчины надевают на голову шапку из белой овчины с белым суконным верхом. Поверх рубашки надевается шуба или кафтан из белого крестьянского сукна с борами, очень похожий на русский, а поверх
каждого из них тулуп. Овчина дубится без всяких окрашиваний. Если шубу кроют, то непременно белым коноплянным холстом собственного производства, тулуп кроют белым же крестьянским сукном. Надевают
шаровары (цулма) из белого крестьянского сукна, на ноги навёртывают онучи из того же сукна и поверх их надевают обычно лапти или белые валенки.
Замужние женщины носят специальный головной убор, называемый «сорока». «Сорока» представляет род чепчика, в передней части его в чехлик вставляется четырёхугольная продолговатая береста, которая
возвышается над лбом. «Сорока» плотно прилегает на голову и сзади оканчивается вышитым хвостиком. Обшитая береста может напоминать лопаточку, отчего, создалось у русских бранное выражение «черемисская
лопатка». Поверх «сорока» повязывается белый вышитый холщовый платок с кистями по краям и наконец накидывают самодельную же белую шерстяную шаль. Женская шуба и кафтан не отличаются от мужских.
На ногах носят так же лапти или валенки, но онучи женщин не из белого, а чёрного сукна и навёртывают их так, как и у женщин других марийцев, довольно толсто. Девица одевается так же как и замужние,
исключая головного убора «сорока».
На руках как мужчины так и женщины носят белые варежки или перчатки.
Летом вместо шапок носят белые шерстяные шляпы с плоским верхом и узкими полями. Шуба и кафтан заменяются поддёвкой (шовыр) из белого холста с борами и без боров, но без всяких украшений. Суконные
онучи заменяются холщовыми портянками. Подпоясываются белым шерстяным поясом или сыромятным ремнём поверх поддёвки. Женщины подпоясываются тканым шерстяным красным поясом (ӱштӧ).
Бельё тоже всё белое и из конопляного холста. Как мужчины, так и женщины носят рубашку и штаны. Вокруг ворота, на груди, а у женщин и на полах, плечах и на спине делаются вышивки из шерстяных ниток,
подкрашенных в чёрный, тёмно-зелёный или тёмно-красный цвет. Но вышивки очень незначительны: у мужчин не шире полувершка, у женщин несколько шире. Формы для вышивок стремятся брать из природы, напр.,
есть изображения дубового листа, клёна, берёзы, липы и т.д.

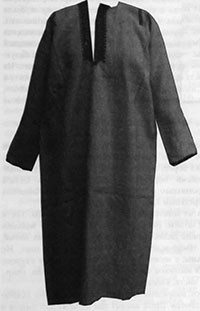

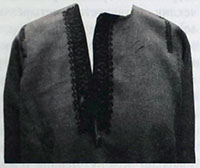
Головные уборы и одежда кугусортинцев (из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева)
Холст ткут только из ниток, напряденных из конопляных волокон; льяные волокна совсем не употребляются. Шёлк входит как элемент для узоров и только тёмно-красного цвета. А вата и бумажная нитка
не употребляются, как продукты фабричного производства.
Волосы, как мужчины, так и женщины (замужние) носят короткие: их обыкновенно стригут. Это делается по соображениям как гигиеническим, так и для устранения излишней нарядности, которая может повлечь
к нескромности. Однако девицы у сектантов преспокойно носят длинные волосы.
Говоря об одежде следует отметить, что для моления сектанты имеют особую одежду, которая отличается большей простотой и чистотой. Так, в рубашке мужчины нет никаких вышивок, а у женщин вышивки имеются
только на груди, плечах и на спине и при том весьма незначительные. «Сорока» надевается особая, но с такими же вышивками, так и в будничном уборе. Платки для молений без всяких вышивок. Пояс тоже белый
из холста или тканый из белой шерсти, разной ширины, но не шире вершка, как у мужчин, так и у женщин, в два обхвата.
Обуваются в особые лапти, онучи белые у всех, тогда как в обычное время женщины и взрослые девицы носят чёрные. Верхняя одежда, в том числе и шляпа, тоже более чисты, чем для будней. Вся молитвенная
одежда надевается только для молений.
Здесь же уместно сказать и о способе приготовления молитвенной одежды. Для этого коноплю берут, или, как говорят, рвут, по одной коноплине, т.е. по одному стеблю, выбирая самые лучшие для волокон, длинные.
Отправляясь для этой работы, предварительно делают омовение всего тела и надевают обычную, но чистую одежду. И затем все дальнейшие работы — молотьба, мочение, сушка и т.д. вплоть до приготовления пеньки,
ниток и холста из них производятся тем же порядком, в чистой одежде и с особенной тщательностью в сознании того, что всё это делается с молитвенной целью. Пенька расчёсывается щёткой, сделанной не из
щетины, а из дерева.
Для стирки белья сектанты также пользуются средствами примитивными — горячей водой и щёлоком. Мыла ни для стирки, ни для мытья рук и лица не употребляют, мотивируя незнанием способа приготовления мыла
и подозревая всякую грязь как в материалах, так и в самом способе.
Интересны соображения, которыми сектанты мотивируют установленный ими белый цвет одежды и устранение всего фабричного. Следует заметить, что они в сравнении с другими марийцами отличаются и
чистоплотностью и здоровьем и большей материальной обеспеченностью. Все тёмные цвета, а тем более чёрный, отсюда и одежда чёрного цвета, которая почти без всякого следа может воспринимать всякую грязь
всё это и духовно сближается или с нечистым и неугодным богу. Сектанты убеждены, что в начале ничего крашеного не было и что одежда была белая. Поэтому и они придерживаются этого же, как угодно богу,
белого цвета.
Однообразие одежды они объясняют стремлением избегнуть нарядность, роскошь, которые могут вести к нескромности, к греховным помыслам.
Любопытна также легенда, связанная с головным убором женщин «сорока». В этот убор, данный богом, была вложена магическая сила. Достаточно было женщине взять его с головы и протянуть, чтобы отогнать от
себя нечистого или моментально умертвить врага. Однако после долгого пользования одно обстоятельство привело к утрате в нём этой силы. Именно сноха, поссорившись со свекровью, схватила с головы своей
убор и пустила его в противницу, которая тут же и умерла. А давая людям этот убор, бог сказал: «Защищайтесь и, если нужно, губите всех, но только не поднимайте на человека». Таким образом заповедь была
нарушена и «сорока» лишилась чудесной своей силы. Это было чрезвычайно важное явление в жизни женщины. До этого рокового события женщина господствовала над мужчиной и могла делать с ним, что хотела.
Но лишившись чудесной силы своего головного убора, она как не наделённая ничем, что могла бы противопоставить мужской силе, подпала влиянию мужчины и сделалась его рабой: «сорока» же осталась лишь
простым памятником её былого величия.
Положив в основу питания принцип воздержания от излишнего употребления пищи и питья, сектанты и в этом отношении создали своеобразный кодекс дозволенного и недозволенного.
Ради ясности и изложения представления означенного кодекса будем делать и общие указания и отмечать частности о дозволенном и недозволенном.
Сектанты употребляют всякую пищу, приготовленную из хлебных растений, молока, масла коровьего и растительного, сала рогатого скота, но без примеси сахара, патоки и других веществ фабрично-заводского
производства; например хлеб, сушки, творожники и т.д. употребляют, а конфеты, печенье и прочее — нет.
Но не все хлебные растения, возделываемые здесь, они считают дозволенными. Например, лён считают растением недозволенным и по основанию довольно странному, именно семена его тонут в воде и появился он
позже.
Мясной стол тоже довольно ограничен. Употребляют мясо, но не всех домашних животных и птиц. Например, не употребляют мясо лошадей, свиней и коз, а из птиц — мяса кур, причём лошади ими содержатся
для рабочих целей, а остальных совсем нет в их хозяйстве. Воздержание от конины объясняется, конечно, общенародным уважением к лошади, как к животному наиболее полезному для людей в хозяйстве. Сектанты
же употребление конины считают безусловно грехом. Свинина отвергается, как мясо животного крайне нечистоплотного и неразборчивого в пище. Кроме того, свинья не считается твореньем божьим. Коза считается
созданием диавола. Курица же потому не годится для стола, что при поисках корма гребётся назад (шэҥгэкэ удыра).
Мясо диких зверей и птиц тоже не употребляется потому, что по объяснению сектантов, человек может употреблять в пищу мясо только тех творений бога, которых он сам содержит и воспитывает.
Употребление яиц, как носителей жизни в зародыше, также считается грехом.
Из овощей употребляется только капуста, репа и брюква.
Картофель, редька, свёкла, огурцы, лук, морковь и другие считаются явившимися позже в человеческом обиходе, а потому они представляются
сектантам нечистыми и отвергаются. Лук, например, считается растением, выросшим от слёз, пролитых над умершими. О других недозволенных предметах также имеются странные объяснения.
Ягоды и травы употребляются все, какие могут быть усвоены человеческим желудком.
Из фруктов также употребляется в пищу почти всё. Яблоки не дозволены, потому что слово «яблоко» напоминает слово «диавол» и это ставится в какую то связь с грехом «прародителей».
Мёд представляет почти единственное сладкое блюдо сектантского стола, и он ценится ими очень высоко. Из мёда они приготовляют напитки — медовщину и медовую сыту.
Что касается напитков, то кроме сказанных приготовлений из мёда сектанты употребляют только воду, молоко и пахтанье (ӱй ӧрэн).
Чаю совсем не пьют.
Спиртных напитков также никаких не употребляют, исключая медовщины, которая в отношении крепости у них очень мало отличается от простого домашнего пива.
Пиво домашнее варят, но без хмеля. Заводского пива совсем не употребляют. Вино считают одним из злейших орудий диавола для совращения человека в грех, и употребление его строго воспрещается.
Всякие наркотические вещества также безусловно воспрещены. Воспрещается курить и нюхать или жевать табак.
Лекарства в общем также не признаются, но всё же прибегают иногда и к ним в случае крайней нужды.
Оспопрививание не допускается, как позднейшая выдумка человека.
Чтобы наглядно представить всю невзыскательность питания сектантов, приведём краткое описание всех их кушаний и напитков.
- Хлеб ржаной (уржа киндэ), приготовленный обыкновенным способом.
- Блины (мэлна) тоже обыкновенные, большей частью овсяные. Вместо масла ради экономии употребляются с молоком или медовой сытой.
- Щи (шӱр) с капустой, кроме которой кладётся овсяная крупа. Кроме того, щи варят с репой и брюквой, борщевником и щавелем.
- Молоко (шӧр) едят с хлебом, хлебая ложкой.
- Пельмени (под-когыльо) делаются много крупнее общеизвестных пельменей. Сочни делаются ржаные и начиняются творогом (тувыртыш) или мясом.
- Мочёная брусника (пӧчыж) и клюква (турньа-пӧчыж).
- Клюква, замешанная на меду.
- Гороховый суп (пурса шӱр).
- Лапша приготовляется на молоке из ржаного пресного теста. Варят с мясом или на молоке (шӧран лашка). Приготовляется лапша и из овсяной или ячменной муки. Лапша из овсяной муки делается в виде шариков величиной с крупный лесной орех.
- Сокта — род колбасы, начинённой крупой с примесью жира, иногда и крови. Сокта считается лакомым блюдом, приготовляется редко.
- Кулебяка (корэвэч) представляет обыкновенное ржаное тесто в форме круглого хлеба, начиняется жирным мясом и крупой.
- Пирог (когыльо) из обыкновенного вскисшего теста, раскатываемого в сочни с начинкой из гороха (пурса), капусты (ковышта), крупы с салом или из ягод.
- Ватрушка (йӧрӧмӧй, шаньга, туашка) представляет толстый сочень из кислого или пресного теста и густо покрывается начинкой из овсяной кашицы или толчёного конопляного семени с примесью овсяной крупы.
- Мёд — в чистом виде в виде медовой сыты (шорва). Медовая сыта — сильно подслащённая мёдом вода, подаётся для обмакивания блинов или для прихлёбывания.
- Медовшина (пӱрӧ) представляет жидкость, полученную от выжимания старых пчелиных сот и заквашенную обыкновенными старыми дрожжами. Это для обыкновенного употребления. Для религиозных целей медовшина приготавливается из чистого сгущённого мёда с водой и примесью овсяной муки.
Сектанты, как и прочие марийцы, занимаются главным образом сельским хозяйством. Несмотря на одинаковые условия в смысле землепользования, они являются, как мы уже заметили выше, материально лучше обеспеченными. И это несмотря даже на то, что хозяйство их сильно расшаталось за долгий период состояния сектантов в ссылке. Лучшая обеспеченность сектантов объясняется их абсолютной трезвостью и то, что почти все сектанты являются мастерами-кустарями, кузнецами и как таковые вырабатывают соответствующие предметы не только для себя, но и для массового употребления, для продажи. Среди сектантов имеются столяры, токари, валенщики, скорняки, плотники и т.д.
1. Догматические положения секты.
Основы учения кугусортинцев и предания, на которых покоятся эти основы.
В основу учения кугусортинцев положена вера в единого бога, которому приносится бескровная жертва, состоящая из свеч и некоторых продуктов питания, главным образом злаковых.
Бог представляется сектантами вообще со всеми теми качествами, какие мыслятся и по христианской религии.
Бога сектанты называют трояко:
1. Тӱҥ тӱҥалтыш, тӱҥ ылыкш кугу йӱмӧ, кугу пӱйырыкшӧ — начало начал, великий бог основы жизни, великий создатель.
2. Тӱҥ тӱҥалтыш, тӱҥ ылыкш кугу шочын ава — начало начал, великая мать — создательница основы жизни.
3. Тӱҥ тӱҥалтыш, тӱҥ ылыкш кӱшыл ава, кӱшыл атьа — начало начал, высшая мать, высший отец основы жизни.
О творении богом мира и человека сектанты пересказывают в общих чертах почти все библейские сказания с некоторыми весьма своеобразными изменениями. Для примера скажем лишь о некоторых изменениях.
Например, причиной так называемого первородного греха считается не вкушение плодов от запрещённого богом дерева, а половая связь Евы с диаволом, в результате чего было сорок рождений, давших безобразные
существа, называемые теперь гадами. При этом половая страсть человека также считается, как результат указанной связи Евы с диаволом.
О размножении рода человеческого после потопа имеется такое добавление в библейское сказание. От сыновей Ноя получилось всего 89 человек, при чём в этом числе мужчин было на одно лицо больше, чем женщин.
И лишний мужчина, чтобы не остаться одиноким, женился на человекоподобном существе диавольской породы. От этой-то последней пары и произошли дурные люди.
Итак, основания учения кугусортинцев покоятся на тех же библейских сказаниях, в его ветхозаветной части, на которых зиждется и новозаветная часть библии — христианство.
Кроме патриархов сектанты признают и всех пророков, упоминаемых в библии; их считают людьми праведной жизни и истинной веры.
Христа признают за величайшего пророка и по учению его ставят выше всех пророков, но отрицают его божественное происхождение. Им непонятно, как Христа можно считать богом, когда он прошёл обычные стадии
человеческого развития. Поэтому и считают его простым человеком, но получившим от бога особенный дар.
Признают кугусортинцы и святых, как людей, угодивших богу, но молиться им считают за грех.
Молиться на иконы считают делом нелепым, приравнивая это к идолопоклонству. Свои же моления пред деревьями оправдывают тем, что в деревьях видят непорочных посредников для молитвенного общения с богом.
Необходимость церкви и часовни как зданий для молитвы отрицают, полагая, что лучшее место для молитвы — лоно природы.
Среди догматических положений, вообще говоря совпадающих с христианскими, резко выделяется различие в учении о так называемом «промысле божием».

Священный родник в семейной роще д. Ошла-Мучаш (ныне Медведевского района), РМЭ
Оно представляется в следующем виде. Сотворив мир, бог не предоставил его самому себе, но продолжал и продолжает помышлять о нём. Промысел божий выражается как на небе, так и на земле. Для этого бог
создал одновременно с человеком всего семнадцать начал, причём человек находится в числе одного из этих начал. Нарицательное название этих начал тӱҥ, что значит буквально «основание». В каждом
основании разумеются мужское и женское начала, называемые пӧлэ — мужское начало и тӱлэ — женское начало. Следовательно, выражение «17 тӱҥ - 17 начал» надо понимать так: «17 пӧлэ, 17 тӱлэ»,
т.е. «17 мужских начал и 17 женских начал».
Из указанных 17-ти начал представляются: первые 10 на небе и называются они «кӱшыл тӱҥ» — высшие (буквально верхние) начала;
7 начал на земле и называются «ӱлыл тӱҥ» — низшие (буквально нижние) начала. Для некоторых начал, как увидим ниже, названия несколько видоизменяются.
Десять высших начал назначены для управления всем миром, причём они являются одновременно и посредниками между богом и миром. Семь же низших начал служат для поддержания жизни на земле.
Они же служат посредниками и ходатаями между богом и высшими началами с одной стороны и между земными созданиями с другой.
Эти 17 начал следующие:
Кум ош кугу пӱйрыкшӧ — буквально: три великих белых создателя:
1. Тӱньа пӱйрыкшӧ — создатель мира, или по другому — кугу пӱйрыкшӧ — великий создатель.
2. Нарашта пӱйрыкшӧ — создатель невинного, т.е. всего появляющегося в жизни.
3. Тӱлэ пӱйрыкшӧ - размножающее начало.
Им на каждом молении ставится девять свеч: б тонких, З потолще. Некоторыми ставится одна свеча, но с 3-мя фитилями.
4. Волгынцыш тӱҥ, осалым кычалшэ — буквально: молниеносное начало, выискивающее злое.
5. Кӱдӱрцӧ тӱҥ, осалым пытарышэ — буквально: громовое начало, уничтожитель зла.
4 и 5 началам ставят свечу в 17 светилен, причём эта свеча представляет обычно просто соединение 17 свеч, обтянутых снаружи восковой оболочкой.
6. Шӱдыр тӱҥ, шӱдыр-шамыц купышо — буквально: звёздное начало, властитель над звездами; ставят семь свеч, из которых одна потолще.
7. Кугарньа тӱҥ, шым кэчэ купышо — буквально: начало пятницы, властитель над семью днями недели.
Каждому дню недели соответствует определённая физическая часть солнца, причём даже в продолжение одного дня различают действие в утренние часы солнечного отца (атьа кэчэ), после полудня его
сменяет солнечная мать (ави кэчэ).
Властителю дней недели ставят свечу в 7 светилен или семь свечей, из которых одна потолще: потолще в честь пятницы, остальные шесть в честь шести дней.
8. Пыл тӱҥ, пыл-шамыцым купышо — облачное начало, властитель над облаками. Ему ставят семь свеч, из которых одна толще других.
9. Кэцэ тӱҥ, цыла тӱҥым купышо — солнечное начало, властитель над всеми началами. Ему 17 свеч, каждая в 17 светилен, и одна из свеч толще.
10. Ылыкш шоцын ава тӱҥ, шым ӱлыл тӱлэм купышо, тӱлыктышӧ — первомать всего живого, властитель над семью низшими началами. Этому началу ставится семь свеч, из которых одна потолще.
11. Айдэм тӱҥ, айдэмым купышо — первожизнь человека, властитель над ним.
12. Кыньэ тӱҥ. кыньэм купышо — первожизнь конопли, властитель над нею.
13. Киндэ тӱҥ. киндым куцышо — первожизнь хлеба (злаков вообще), властитель над ним.
14. Пу тӱҥ. пушэҥгым куцышо — первожизнь дерева, властитель над деревьями.
15. Мӱкш тӱҥ. мӱкшым куцышо — первожизнь пчёл, властитель над пчёлами.
16. Вольык тӱҥ, вольыкым куцышо — первожизнь животных, властитель над домашними животными.
17. Шудо тӱҥ, шудым куцышо - первожизнь трав, властитель над травами.
К последним семи началам обращаются при молениях в назначенные, сообразно их функциям, пятницы. Каждому из них ставится самое меньшее по свече.
Все перечисленные 17 начал прежде были равными между собой, но впоследствии из семи низших начал шесть подпали под влияние одного из них, именно человека.
В каждом из 17 начал мыслятся две части: мужская, называется «пӧлэ» и женская - «тӱлэ».
Таким образом, под названием «тӱньа пӱйрыкшӧ» следует разуметь «пӧлэ-тӱлэ тӱньа пӱйрыкшӧ». Или ещё «айдэм тӱҥ — айдэм пӧлэ-тӱлэ». Однако, необходимо также заметить, что это понимание,
как выяснилось из расспросов, вкладывается не для всех 17 начал.
Затем при каждом из начал мыслится ангел (суксо), называемый также вуй йӱмӧ - хранитель вообще.
Эти 17 начал суть начала положительные, созидательные. Но имеются начала отрицательные, враждебные положительным. Диавол, создавший в преисподней своё тёмное царство - ад, является началом
отрицательным, стремящимся к разрушению того, что делается богом через перечисленные 17 начал.
Однако бог не оставил без внимания и это явление. Больше всего и чаще всего подвергается искушениям диавола лучшее из творений бога - человек. Для ограждения человека от диавола бог при самом
рождении даёт ему ангела-хранителя. Сопутствуя человеку всю его жизнь и наставляя его ко всему доброму, ангел и по смерти человека ходатайствует перед богом о душе его. При этом от души греховной
ангел отходит к богу, а при душе человека, угодившего богу, остаётся в загробной жизни.
Кроме этого для борьбы с диаволом бог образовал бесплотное воинство, называемое «кӱдырцӧ» — гром, громовые силы. Это бесплотные духи, обладающие большим могуществом. Их цель — оберегание всего
существующею в мире от злых намерений диавола и его приспешников. Указанное воинство получилось в результате борьбы бога с диаволом ещё в начале сотворения мира, оставлено богом и на будущее время,
поскольку сделалось постоянным и царство диавола в аду.
Воинство небесное действует более всего в период наибольшего проявления жизни весною, когда большинство творений пробуждается от сна и продолжает жить до осени. Диавол из зависти старается погубить
возможно большее количество жизней. Тогда приходит на помощь воинство божие.
Каким же образом? Молния представляется передвижением частей этого воинства, а гром содроганием вселенной от этого движения, когда воинство устремляется, преследуя диавола и его помощников.
Взгляд сектантов на природу тоже особенный, отличный от взгляда других марийцев. По представлению их, солнце, луна, звезды, ветер, растения, деревья — словом всё в природе имеет живую душу,
и всё это способно понимать и чувствовать. Исключая солнца, звёзд, луны, воздуха, ветра и облаков, признаваемых вечно живыми, души прочих предметов природы считаются смертными и неспособными к
самостоятельным движениям, но зато они имеют то преимущество, напр., перед человеком, что способны лицезреть бога и ангелов, взорам их доступны все деяния н даже помыслы человека. Природа не носит
на себе проклятия творца, до чего допустил себя человек, она чиста и непорочна, а потому и для возношения молитв человека природа является наилучшей посредницей. Вся жизнь природы проходит в
непрестанном прославлении бога.
Одним из высших творений бога является вечно живое солнце (ылыкш кэчэ). Оно самый искренний, усердный и верный служитель бога. Солнце всех согревает, пробуждает от сна и даёт всё необходимое для жизни.
Оно видит всё, что делается во вселенной и служит посредником между богом и людьми и всей остальной природой.
Однако, чтобы вселенная не осталась без попечения и ночью, бог сотворил вечно живые звезды, которые всю ночь исполняют обязанности солнца. Таким образом солнце и звезды являются самыми ближайшими к
богу творениями и верными служителями его. Когда-то и луна была таким же существом, но она изменила богу и была за это проклята. Об этом так рассказывается в легенде.
В начале смерть была видима. Одному человеку удалось хитростью заключить её в колоду и опустить в озеро. Луна это заметила, но по просьбе человека обещалась не говорить об этом даже богу.
Прошло много лет. Человек и жена его так состарились, что истощились все их силы, а умереть не могли, потому что смерть не могла выйти из заточения. И стали они просить бога послать им смерть.
После долгих поисков, по указанию одной звёздочки, люди нашли её на дне озера и извлекли из колоды еле живую и сократившуюся от истощения до размера горошины. С этих-то пор смерть и стала невидимой.
Итак, за указанную измену луна проклята богом. Поэтому она и по сей день бледна и печальна и притом по-прежнему непостоянна: то служит богу, светит, то раскапризничавшись затенится и надолго покидает
свой пост.
Солнце и звезды небесные имеют мировое, вселенское значение. И есть еше, что служит главным образом для интересов человека: это земля и все существующие на ней животные и растения.
Земля представляется существом живым, потому что она дышит и питается: дыхание её заметно в виде пара, а пищей служит «животворящее» дыхание бога - воздух. Труд земли очень велик: она растит
деревья, травы и всю вообще растительность, снабжает людей живой водой, носит на себе всё человечество и в то же время страдает от его нечистот и грехов.
Растения, деревья и травы тоже имеют душу. Они созданы богом для человека. Но человек должен пользоваться ими только на крайне необходимое, иначе даёт ответ за каждую загубленную душу.
Кроме материальных нужд эти же непорочные создания бога служат и посредниками для передачи молитв людей богу, хотя и помимо молитв человека они славят бога и возвещают ему о добрых и злых деяниях
человека. По той же причине, то есть по непорочности одни только деревья и могут служить материалом для приготовления богослужебной посуды и прочей утвари.
Животные относятся к той же категории, но они обладают большими способностями, чем растения: могут передвигаться, имеют голос и т.д.
Таким образом, вся природа непорочна и чиста и служит лучшей посредницей между богом и людьми. Поэтому грешно злоупотреблять предметами природы. Но должно пользоваться, испрашивая на это благословение
бога. Ещё более большим грехом, чем злоупотребление предметами природы, считается совершенно беспричинное уничтожение предметов природы, которые как одушевлённые вопиют к богу и этим навлекают гнев
его на виновника. Поэтому возникает нелепая мысль, что грешно отзываться или даже думать дурно о природе, напр., даже при неурожаях, эпидемиях и т.п. бедствиях грешно выражать недовольство, но следует
только благодарить бога и прославлять, памятуя, что бог в мире всё направляет на благо человека.
В основе борьбы за существование в жизни сектантов заключается идея честного труда, занятия, исключающего эксплуатацию человека человеком. И если проследить жизнь сектантов до ссылки, в период ссылки
и после неё, то можно убедиться, насколько они привязаны к земле, к быту земледельческому и как к подспорью для последнего, разного вида ремёслам — столярному, токарному, плотническому, гончарному и т.д.
Можно положительно утверждать, что если возможно изготовить какие-либо вещи, продукты самостоятельно, не прибегая к машинам, сложной выработке, то сектанты непременно производят их сами.
Занятия, связанные с лёгкой наживой вообще, как напр., так называемый лопаточный сбор за размол хлеба (зёрен), выигрыши, получаемые при разных видах игр (в орлянку, в карты и т.д.), плата за гадания,
ворожбу, проценты, доходы, получаемые от торговли, всякого рода спекуляции — всё это вообще говоря отвергается и считается делом греховным, как обман, как труд нечестный. Всякое же даровое поступление
чего бы то ни было считается сектантами как предвестие беды. Поэтому сектант ни за что не пользуется находкой: или оставит её без внимания, или сообщит кому-либо с целью извещения хозяина пропажи.
Правда, были в жизни сектантов моменты, когда после возвращения из ссылки некоторые из них занимались и торговлей. При этом, как бы исспрашивая у покупателей согласия на получение накидки в цене сектанты
без всякой утайки сообщали о покупной цене и надбавке за свои хлопоты. Но это было сделано ими ввиду полной невозможности заняться чем-либо другим, т.к., как уже было сказано выше, их, как людей
противообщественных, не приняли ни в мещанские, ни в крестьянские общества.
С другой стороны, как только получилась возможность заниматься честным трудом, они сейчас же вернулись в свои общества и бросили занятия, противные их убеждениям.
Весьма интересен обрядовый момент секты, подтверждающий идеологию земледельческого быта её последователей. Каждый сектант, как мужчина, так и женщина, и даже дети, отправляясь куда-либо в сторону от дома,
должны иметь при себе зашитые в холщовый мешочек в миниатюрном деревянном блюдечке хлебные зёрна: мужчины — зёрна ржи, женщины — овса. Зёрна для этой цели берутся от жертвенных приношений при молении
о новом урожае хлеба. Указанный амулет обычно носится от старого урожая хлеба до нового, причём зёрна от старого урожая при смене новыми высеваются в землю вместе с общей массой семян во время сева.
Указанный амулет с хлебными зёрнами несомненно служит для постоянного напоминания сектанту о его коренном занятии — о земледелии.
Другой момент, тоже очень характерный, служащий для ещё большего подтверждения и оправдания указанного быта и оседлой жизни вообще, это наличие плана двора сектантов из восковой пластинки. Обрядовое
же подтверждение указанного факта надо видеть в устройстве моления со всесожжением, в котором принесены в жертву кроме обычных молитвенных продуктов ещё все орудия земледельческого быта в виде моделей,
а в том числе и планы дворов из воска, пластинки всех сектантов.
Для характеристики семейной жизни, кроме многочисленных обрядов, при совершении брака и молений в разные периоды брачной жизни любопытным является сближение взаимоотношений различных родственных
названий, и даже пола с названиями рук и пальцев на них. Так, правая рука символизирует мужчину (пӧрйэҥг), левая — женщину (ӱдрамаш). Правая рука, далее, означает свою семью, левая — другую, но
родственную по женской линии. На правой руке означают: большой палец (кугу парньа) - отца (атьа), указательный (кошар парньа) - сына (эргэ), средний (покшэл парньа) - мать (ава), безымянный
(лӱмдымӧ парньа) - дочь (ӱдӱр), мизинец (каза парньа) - внука (уныка). На левой руке означают: большой палец - свата (тулар), средний - сватью (тулацэ), указательный - зятя (вина), безымянный — невестку,
сноху (шэшкэ), мизинец — внука (уныка).
Что касается общественных моментов в жизни сектантов, они подтверждаются фактами как религиозной, так и повседневной жизни их. Общественный характер религии сектантов в смысле доступности видеть
и наблюдать её, доказывается тем, что они не отличались замкнутостью, пока не было активного преследования со стороны властей и насмешек окружающих, и потому всякие сообщения, особенно изобилующие
в мелких заметках и характеризующие их как элемент противообщественный, представляют или явные измышления врагов сектантов, или неумышленные искажения досужих корреспондентов, пользовавшихся для своих
целей ненадёжными источниками.
С другой стороны, едва ли можно указать среди стойких приверженцев секты хотя бы на одно лицо, по их мнению, как на нарушителя общественного порядка или уклоняющегося от несения общественных повинностей,
налогов и т.д. Они говорят, что благодаря наличию указанного качества врагам их пришлось прибегнуть к клевете и угрозам, чтобы составить соответствующие приговоры для ссылки их в Сибирь.
Понятно также, что при положительных качествах, как всякие истинные приверженцы своей религии, сектанты не были лишены и претензий на монопольное право своей исключительной правоты, как последователи
«единственно истинной веры». Это было подтверждено ими следующим демонстративным фактом.
В 1888—89 годах, когда секта достаточно выявилась и окрепла, сектанты похоронили в земле в разных местах, гл. образом в болотах, все молитвенные принадлежности как православного, так и языческого моления,
т.е. иконы, кресты, книги, молитвенные котлы, берестяные и лубяные коробки для молитвенных приношений духу шалаша. Это означало, что православие и язычество, как ложные религии, умерли-похоронены,
а кугусортинская вера живёт. Заметим при этом, что указанному акту предшествовало краткое общественное моление.
Идея о том, что вне кугусортинской секты нет спасения, прекрасно выражена также в следующем акте.
В 1907 г. в сентябре месяце в каждой дворовой роще после краткого общественного моления схоронены в земле по семи столиков, сделанных из семи различных материалов, соответствующих всё тем же семи
низшим началам, т.е. из берёзы, конопли, ржаной соломы, липы, вербы, овсяной соломы и травы. На каждом столике положено по семи семянок от всех семи видов растений в семи маленьких тарелочках,
сделанных из тех же вышеуказанных материалов.
Столики длиною 9 вер., шир. 7 вершк. и вышин. 7 вершк. зарыты в глубине около 7 вершк. Против каждого столика посажены в землю соответствующие растения — берёза, липа и верба саженцами длиною ок.
7 четвер. по 2 деревца, а остальные в виде зрелых растений по целой горсти тоже со стеблями. Деревья в настоящее время уже выросли, а другие растения погибли.
Чтобы понять значение указанного насаждения, следует привести представления сектантов об изменениях в жизни земли. Они думают, что существование земли делится на 17 эпох, причём по греховности
обитателей её она с каждой эпохой проваливается всё ниже. В настоящее время земля переживает 9-ю эпоху. Но уже и на 10 эпохе существования земли иссякнет в ней возможность физической жизни для обитателей.
Сектанты же, хотя и из них лишь достойнейшие, спасутся, усевшись на корнях деревьев, взрощенных в дворовых рощах, и будут жить спокойной и счастливой жизнью.
Но в чём действительно можно было бы обвинить сектантов, разумеем при старом строе, опять таки по мнению их самих же, так это в отрицании ими самого духа эксплуатации чужого труда, отрицании
самодержавной власти. Правда, в письменном изложении их вероучения можно было встретить мысли и о признании старого строя, а в молитвенных обращениях прошения лаже о здравии царя, но при личных
беседах с сектантами они всегда подчёркивают, что всё это вызывалось необходимостью избавиться от подозрений и преследований властей. Таким образом, хотя официально сектанты н выражали признание
старой власти, но в действительности это признание, как они утверждают, совершенно не подтверждалось. Даже больше: в собеседованиях сектантов между собою можно было слышать прямо отрицание, напр.,
самодержавной власти. Известно, что вожаки секты говорили: «К чему вам царя, когда имеется один царь для всех — бог, а мы все его воины». Один из покойных уже вожаков, именно Г.Гаврилов, на вопрос
о том, как мыслит о себе сектант (независимо даже от того, кем задаётся вопрос, поймёт вопрошающий или нет) предлагал отвечать непременно на марийском языке так: «Йӱмын салтак улам», т.е. «Я божий воин».
Нелегко конечно доказать, что сектанты действительно протестовали против самодержавной власти, но что они являются полными отрицателями всяких насильственных действии над другой личностью, для этого
имеются самые неоспоримые данные. В 1905 г. по возвращении из Сибири сектанты устроили большое общественное моление, в котором просили бога усилить деятельность громового начала (кӱдӱрцӧ тӱҥ) в целях
уничтожения войн и всех специальных орудий, употребляемых для взаимоистребления. А еше позже, именно в 1907 г., в июле месяце, в пятницу перед Ильиным днем (Ильан кугарньан), сектанты устроили в
Упшинской роще специальное моление с просьбой об уничтожении орудий, употребляемых как для военных действий, так и для ловли зверей и птиц, и после этого моления зарыли вдали от рощи в землю в глубине
около семи четвертей приготовленные из дерева специально с данной целью модели следующих орудий: пушки, шпаги, револьвера, ружья, кистеня, пращи для метания камней, разных видов капканов и западней.
Зарыв всё это в особо вырытой яме, закончили эту своеобразную ликвидацию орудий истребления своего рода таранизацией при помощи пестов, приготовленных из следующих семи видов материалов, соответствующих,
понятно, семи низшим началам: из берёзы, немятой конопли, ржаной соломы, липы, вербы, овсяной соломы и травы. Это последнее действие сопровождалось игрой на гуслях и боем в барабан. Заключительные
слова при этом были, как рассказывают они, примерно такие: «Латшым шӧр вошт, кӱдӱрцӧ-волгынцо, рашкэн волтыда, ваш кредалма, киндэ, вольык, шудо пӱцкэдылмаш ыжнэ лий, лыжга илыш лийжэ». Это значит:
«Гром и молния, свергните на семнадцать граней (разумеется, орудия истребления). Пусть не будет войн, истребления скота и растительности. Пусть будет жизнь спокойная (мирная)». И насколько нам удалось
узнать, подобная же ликвидация орудий истребления произведена самостоятельно почти каждым сектантом, т.е. подворно.
Указанный протест сектантов против милитаризма был всегда силён и прорывался у них даже в условиях военной жизни старого строя, именно наблюдались случаи отказа сектантов учиться ружейным приёмам в
период последней германской войны. А в повседневной жизни их наблюдались даже такие курьёзы сентиментального порядка: отец Якмановых Алексей не решался убить, напр., даже назойливой мухи или комара,
садившихся на него, а только любовно сгонял или сдувал от себя. Незлобие поистине достойное оправдания поговорки «Мухи не обидит».
1. Обряды при молениях сектантов. Праздники.
Под праздниками у сектантов, как и во многих религиях, разумеются времена, посвящённые богу и события, сопровождаемые приличествующими им молениями. При таком широком определении к праздникам придётся
отнести и всякий случай, даже и печальный, соединяемый хотя бы с кратким молением богу. Действительно, с таким содержанием и мыслится сектантами понятне о празднике.
Еженедельно празднуется сектантами пятница. Как седьмой день в неделе, пятница служит днём отдыха и молитвы в целях благодарения и прославления бога и испрошения у него милости на следующую неделю.
Обычное моление в каждую пятницу бывает домашнее, только для своей семьи данного хозяина, но в нём могут участвовать и прочие члены секты, попавшие случайно.
Через каждые шесть пятниц седьмая проводится в общественном молении дома у кого-либо из членов, однако не по очереди, а по имеющемуся количеству запаса для жертвенных приношений. Эта седьмая пятница
назначается для прославления бога за проведённые семь недель за взрослых и малолетних и с просьбой благоденствия на будущие семь недель. Эти пятницы подвижны и не приходятся в одни и те же числа.
Кроме того, особенной торжественностью отличается празднование тех пятниц, которые совпадают с выдающимися событиями земледельческого быта.
Весь круг выдающихся в году пятниц представляется в виде следующих групп:
1. Пятница перед праздником Шортйол, которая бывает пред ягнением овец, отёлом коров и вообще пред приплодом домашних животных.
2. Пятница перед 1-е марта по старому стилю, перед возрождением природы.
3а. Пятница перед выпуском скота на пастбище весною.
3б. Пятница перед весенним посевом; тут же моление о даровании успехов во всех летних работах.
4а. Пятница перед сенокосом (шудо солымо ваштараш).
4б. Пятница перед убоем скота, обычно в конце июня.
5. Пятница перед жатвой (тӱрэдмэ ваштарэш).
6а. Пятница перед подлазыванием мёда (Ильан кугарньа).
6б. Пятница перед употреблением (почином) нового хлеба (у киндэ ваштарэш).
6в. Перед осенним севом (ӱдымӧ ваштарэш).
7а. Пятница по уборке хлеба (шурно погымо поштэк).
7б. Пятница перед рубкой леса в сентябре (пушэнгэ румо ваштарэш).
7в. Пятница перед загоном скота домой (вольыкым мӧҥгыш пуртымо ваштарэш).

Стол для семейных пятничных молений (из фондов Национального музея РМЭ им.Т.Евсеева)
К событиям, сопровождаемым молениями, относятся: брак и некоторые моменты до и после него; некоторые моменты до рождения ребёнка и после этого; болезни и другие несчастные случаи, как, например, война,
засуха, неурожай и т.д.; наконец, смерть и похороны и некоторые дни после похорон.
Некоторые события, сопровождаемые молениями, соединяются, кроме молений, и с постом, под которым разумеются воздержание от излишка в пище и в питье.
Кстати, здесь же заметим, что молениями сопровождаются не только праздники и некоторые другие события, но и явления самого обыденного, повседневного характера, как, напр., начало дня, моменты до и после
принятия пищи, перед отходом ко сну и т.д.
Ниже приводим список сектантских молитвословий на разные случаи с переводом более или менее точным, насколько возможно было это сделать:
а) кӱчык кумалмаш,
б) кужурак кумалтыш.
2. Кочмо ончылан йӱмылан кумалмаш.
З. Кочмымӧҥгӧ йӱмылан кумалмаш.
4. Малаш, канаш вочмо годым йумылан кумалмаш.
5. Ойымо кэчын кугарньан йӱмылан кумалмаш.
6. Вольыкым нур шӧрышкӧ шэраш луктын колтымо ончылан йӱмылан кумалмаш
7. Киндэӱдымашлан, нурпаша лыштымашлан йӱмылан кумалмаш.
8. Шудо солаш-пӱчкаш тӱҥалме ончылан йӱмылан кумалмаш.
9. Киндэ тӱрэдаш-пӱчкаш тӱналмэ ончылан йӱмылан кумалмаш.
10. Мӱкш кузьымо ончылан йӱмылан кумалмаш.
11. Ылыкш пушэнтэ рушашлан йумылан кумалмаш.
12. Нур паша виктарымылан, вольык кудвичышкэ чумырымынам, улыктарымылан йӱмылан кумалмаш.
13. Айдэмэ мужыраҥмэ годым йумылан кумалмаш.
14. Шочыш шочмылан йӱмылан кумалмаш.
15. Колэн каймылан йӱмылан кумалмаш.
16. Тӱшкан погынэн йӱмылан кумалмаш.
а) краткая молитва,
б) молитва попространнее.
2. Моление богу перед едой.
З. Моление богу после еды.
4. Моление богу перед сном, отдыхом.
5. Моление богу в пятницу, в день богопочтения.
6. Моление богу перед выпуском скота на выгон, на подножный корм.
7. Моление богу, перед севом, перед полевыми работами.
8. Моление богу перед началом сенокоса.
9. Моление богу перед началом жатвы.
10. Моление богу перед подлазыванием пчёл.
11. Моление богу перед рубкой леса.
12. Моление богу по окончании полевых работ, по загоне скота домой, по выделении излишков продуктов.
13. Моление богу при бракосочетании.
14. Моление богу при рождении ребёнка.
15. Моление богу по покойнику.
16. Общественное моление богу.
ӹ для простоты письма
представлены без знаков
краткости и смягчения.
Всё необходимое для моления, начиная от стола и кончая ложками, сектанты приготовляют сами, а те из них, которые не умеют, заказывают мастерам из своих же. А среди них, как уже было сказано раньше,
есть всякого рода ремесленники. При этом непременным условием считаются все те же омовения и чистая одежда, без чего предметы не могут быть угодными для моления.
Опишем предметы моления и жертвенные приготовления применительно к списку их, представленному Якмановым на Казанскую выставку в 1890 году.
Перечень их, сделанный в книге Кузнецова, неполный и неточный. Представим его с поправками и дополнениями, сделанными со слов самого Якманова. Мы имеем на руках самый подлинный перечень, по
которому и делаем поправки и дополнения.
На подстилке из пенькового холста на Казанской выставке действительно стояли два стола: один берёзовый и другой липовый. Указанная подстилка накладывалась под столом при молении дома в прежнее время,
чтобы крошки не падали на голый пол и не попирались. В последнее же время её перестали подкладывать, т.к. и число сектантов уменьшилось, и материалов стало труднее доставать.
На берёзовом столе находились:
1. Восковая подставка для свечей в виде низкого цилиндра 5-6 вершков в диаметре и толщиной около 3/4 вершка.
2. На указанной подставке 9 самодельных восковых свеч, из которых три толщиной около вершка, шесть с мизинец, длиной все по 9,5 вершков.
3. Деревянное блюдо в диаметре около 4-х вершков с овсяной крупой, изображавшей кашицу.
4. На другом таком же блюде овсяная мука, изображавшая блины.
Примечание: Самые кашица и блины не были представлены в виду
возможной порчи.
5. Овсяные пресные хлебики на медовой сыте (шорвакиндэ, а не «шобакшах», как у К.), всего 9, из которых три в диаметре обыкновенного стакана, 6 поменьше. Хлебики были также на деревянном блюде.
6—7. Два берестяных бурачка (шовакш): один для медовщины. другой для медовой сыты, в диаметре около 3 вершков, вышиной около меры «шор-шит». «Шор-шит» длина, получающаяся при раздвижении большого
и среднего пальцев.
8—9. При каждом бурачке по деревянному половнику (пу шушлык).
10—13. Четыре небольших деревянных ковша с короткими ручками.
14—15. Деревянное блюдо со спущенным мёдом в количестве около фунта и ложечкой в форме маленькой деревянной лопаточки.
16-24. Девять ложек, употребляемых для моления, по форме и величине в виде обыкновенных ложек.
На липовом столе были представлены:
1. Посреди восковая подставка подобно указанной выше.
2. На ней семь восковых свеч, из которых одна толстая, а шесть тонких, такого соответственно размера, как и вышеуказанные.
3. Деревянное блюдо с овсяной крупой взамен кашицы.
4. На другом таком же блюде овсяная мука вместо блинов.
5. На третьем блюде семь пресных хлебиков на медовой сыте; один побольше, шесть меньше, но размером как указано выше.
6—7. Два берестяных бурачка тех же размеров, как и на берёзовом столе: один для медовщины, другой для медовой сыты, но на выставке в действительности содержимое во избежание порчи не представлялось.
8—9. При каждом бурачке также по половнику.
10—12. Три небольших деревянных ковша с двумя ручками каждый.
13. Деревянное блюдо с топлёным коровьим маслом, без соли, в количестве около 1 фунта.
14. Семь ложек для моления.

Стол для молений (фрагмент экспозиции Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева)
Под столами и возле них были следующие предметы:
1. На поперечинах ножек стола деревянное ружьё (пу пичал) в холщовом чехле.
2. На ней деревянная шпага (пу кэрдэ), также в холщовом чехле.
3. Гусли с натянутыми струнами, всё приготовлено самими сектантами.
4. Барабан из сыромятной телячьей кожи и лямкой для подвешивания на шее. В последнее время, именно со времени возвращения из ссылки, барабан стали делать из холста.
5. Огнедобыватели — два деревянных берёзовых бруса: один потолще около 1 вершка и короче 5 четв., четырёхгранный; другой тоньше и длиннее, около 1,5 аршина, плоский, второй для трения по первому.
6—7. Модель ступки с пестом из берёзы и модель начевок.
8. Решето продолговатой формы, сплетённое из лыка.
9. Нарост с берёзы (куэ шинча, а «не куэ поҥго», как у Кузнецова). Это особое болезненное образование на берёзе, берётся сектантами для изготовления трута, было в холщовом мешочке.
10. Клок пеньковых волокон в том же мешочке для разжигания огня с трута. У Кузнецова ошибочно сказано, что это пенька для светильни свеч.
11. Холщовый колпак, надевавшийся во время моления для предотвращения падения волос на жертвенные приношения. Со времени ссылки колпак заменён шляпой.
12. Ножик из латуни (той кӱзӧ) для разрезания воскового круга, трута из берёзового нароста и хлебиков из медовой сыты.
13. Дудка (пуалтымэ пуч) из двух деревянных половинок, обмотанных сверху берестой.
14. Барабан (см. выше).
15. Волынка с пузырём. Музыкальный инструмент, который и раньше употреблялся редко, лишь на свадьбах, по возвращении же из Сибири почти совсем перестали им пользоваться.
16. Модель плуга.
17. Модель бороны.
18. Образчики вышивок сектантов на белом картоне.
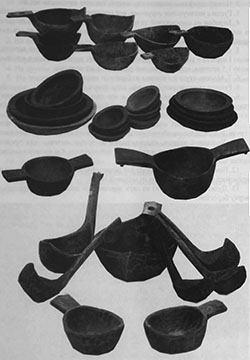
Обрядовая посуда (из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева)
Какие предметы и в каком молении употребляются, об этом будет сказано далее в соответствующих местах.
Для молитвенных целей употребляется вообще деревянная посуда. Но в обыденной жизни допускается кроме деревянной и глиняная, а у некоторых и фарфоровая.
В целях приготовления масла для моления молоко доят не в горшок, как обычно, а в бурак или липовую кадочку.
Мёд берётся только от живых пчёл. Употребляется и спущенный, и сотовый.
Воск берут также только от живых пчёл. При неимении своего воска покупают у других, но больше у знакомых и известных, чтобы не быть обманутыми относительно доброкачественности.
При этом в цене не рядятся, а дают ту, которую назначает продавец. Растопив вместе с водой в медном котле, получают круг, со дна которого тёмный осадок соскребают и сжигают в печке.
Особенная тщательность наблюдается при заготовке муки и крупы. Для этой цели овёс, напр., предварительно просеивают в решето. Затем выбирают по зёрнышку самые лучшие до семи раз.
Если зёрна предназначаются для жертвы всесожжения в роще, то выборка их доводится до 49 раз.
Высушив отборные зёрна в печке, толкут их в ступке и получают крупу и муку.
И ржаная, и овсяная мука приготовляются одинаковым способом. Всё различие заключается в том, что при толчении овса провевают его для отделения мякины, и при этом сначала получается крупа, а потом мука.
Приготовленные таким образом материалы, т.е. мёд, воск овсяная крупа, мука и масло ставятся на молитвенный или обыкновенный стол или даже на скамейку, выносятся до семи раз во двор в течении семи дней,
и испрашивается у бога освящение. Если при этом моление должно совершиться скоро, то этот семикратный вынос выполняется даже в один день. Эту церемонию может проделать как мужчина, так и женщина и девица,
причём и последние исполняют это с омовением и переменой одежды на молитвенную. Женщины и девицы к приготовлениям и молению не допускаются лишь в период месячных очищений (йола жап). Конечно, точный
контроль в этом случае невозможен, и вся надежда возлагается на совесть выполняющих указанные обязанности.
Вынося материалы для освящения, вычитывают следующую молитву:
Только после сказанного освящения материалов приступают к приготовлению жертвенных приношений.
За день до моления в том же бураке, который ставится при самом молении, делается медовщина из спущенного мёда, овсяной муки и ключевой воды. Особенной пропорции нет, всё берётся на глаз.
Трут и пенька особо не освящаются.
Вся молитвенная утварь и материалы для приготовления жертвенных приношений хранятся в чулане или амбаре.
Накануне пятницы все взрослые и дети старше девяти лет делают омовение всего тела где-либо во дворе, надевая пока то же бельё. Во избежание банного запаха, могущего проникнуть в молитвенную обстановку,
бани в среду и четверг не бывает. Но если случится в этот день баня, то бельё меняется на обыкновенное чистое, а после омовения во дворе на молитвенное.
Утром в пятницу, встав в обычное время и умывшись, меняют всю обычную одежду нижнюю и верхнюю на молитвенную. Члены секты из других деревень, дальние приезжают накануне, ближние в день моления, причём
все привозят с собой и молитвенную одежду, и воск для свеч. Можно приехать и прямо в молитвенной одежде, исключая, впрочем, лаптей, которыми обуваются лишь перед самым молением.
С утра же на длинном шесте из какого-либо дерева вывешивается отрезок белого холста длиной с мах для предупреждения праздных посетителей, могущих помешать приготовлениям к молению.
Такое предупреждение практиковалось до ссылки в Сибирь, но в настоящее время этого уже нет.
Трое мужчин (могут быть и женщины) добывают живой огонь, хотя бы и был старый огонь в печке. Способ добывания огня был уже описан выше. Здесь заметим, что материалами для добывания огня могут быть
как деревья, так и другие растения. Из деревьев: берёза, липа, верба, дуб, клён; из растений стебли как злаков, так и травы. Однако не всегда обе части бывают однородными; часть, которую трут,
всегда бывает из дерева, и притом сухая, а другая, изменяющаяся в материале сообразно моменту моления, бывает из разных указанных материалов.
Добытым огнём женщина разжигает печку, в которой печёт пресные (не кислые и без соли) круглые хлебики из овсяной или ржаной муки на медовой сыте (шорва киндэ), числом не меньше семи, а величиной
вершка полтора в диаметре.
Кроме сказанных хлебиков тем же способом приготовляется ещё один хлебик побольше, вершка три в диаметре и даже больше.
Затем пекутся овсяные блины, тоже не кислые и без соли, числом и величиной так же, как и хлебики. Блины разной величины, кто какие состряпает. Они пекутся на деревянной дощечке. Блины намазываются
мёдом и иногда маслом несолёным.
Наконец приготовляется ещё род кашицы (ньэмыр) из овсяной муки, редко из ржаной и тоже без соли. Это блюдо печётся на берестяной четыреугольной посудине (кумыж эртньэ).
В то время, как женщины готовят хлебные части для жертвенных приношений, мужчины занимаются приготовлением свеч.
Один из них на шесте, подвешенном в комнате, развешивает пучками волокна пеньки для
светилен, причём волокна непременно из женского элемента, а не мужского, т.е. не посконные. Заметим, что верхним концом считается конец с верхним концом волокон пеньки, за этим следят со скрупулёзной
точностью. Материалом для светильни главной большой свечи могут быть сообразно моменту моления и солома, и трава.
Другой из молящихся раскатывает на доске слегка растопленный воск, делая его наподобие
сочня или корки. Положив на растопленный воск пучок пеньки, двое сучат свечи, делая их длиной все ровно по 9,5 вершков, толщиной одну- с большой палец (может быть, несколько и толще, и тоньше), все же
другие делаются тонкими и число их не ограничивается. Длина свеч вообще постоянная, толщина же может изменяться. В зависимости от числа молящихся большая свеча может доходить до громаднейших размеров
в отношении толщины и веса; напр., раньше такие свечи доходили даже до трёх пудов. Насученные свечи кто-нибудь выравнивает и сглаживает все шероховатости, катая их между двух досок.
Затем на вымытый стол, обращенный на юго-восток и покрываемый иногда белой холщовой скатертью, устанавливается вся жертвенная посуда с приношениями в следующем порядке :
1. Посреди стола ставится бурак (шовакш) — сосуд из бересты или кадушка (лэҥыж) из липы. В сосуд насыпается рожь, овёс или конопляное семя и в семена втыкаются свечи. Заметим, что семена в данном
случае ничего не символизируют, а служат лишь для того, чтобы придать свечам устойчивое вертикальное положение. По самой середине сосуда ставятся три свечи, назначаемые трём великим создателям (пӱйрыкшӧ),
мыслимым вернее в отношении планирования жизни людей, шесть свеч ангелам (суксошамыч), которых у каждого создателя по два.
Этот центральный сосуд со свечами всегда бывает один.
2. Направо от первого сосуда ставится второй сосуд такой же с семью свечами, из которых одна той же величины, как и большая свеча в первом.
и назначается она первоначальной матери жизни (тӱҥ тӱҥалтыш, тӱҥ ылыкш тӱле ава), а остальные шесть свеч её ангелам.
Таких сосудов с семью свечами может быть несколько, смотря по важности моления и количеству молящихся. В этом случае одного стола не хватает, бывает два. Но может быть и много, напр., 6—7 столов,
даже и больше. При двух столах один бывает берёзовый, другой липовый (могут быть н оба берёзовые, но двух липовых не бывает) и сосуд с 9 свечами на берёзовом столе.
3. Направо от второго сосуда ставится на семейном молении один сосуд — тоже бурачек или вид кадушки за здравие членов семейства со свечами потолще гусиного пера. Свечей столько, сколько членов семьи.
>
4. По краям стола с восточной стороны, т.е. рядом с первым сосудом ещё бурачек с медовщиной и ковшом (шушлык) для разливания, а по друтому краю, рядом с третьим сосудом направо бурачек с медовой
сытой (мӱй ширэ-шорва) с таким же ковшом.
5. Впереди три маленьких блюда деревянных:
а) посредине с маленькими пресными хлебиками, не менее семи (может быть и больше) из овсяной или ржаной муки;
б) направо от хлебного блюда ставится блюдо с овсяными блинами;
не кислыми и без соли. Блины ставятся без счёта, но не меньше семи;
в) налево от хлебного блюда овсяная, реже ржаная кашица (ньэмыр) тоже без соли с мёдом, положенным посреди блюда в ямку (ӱй лодо). На этом блюде по краям втыкается столько ложек, сколько членов в семье.
Позади сосудов, указанных под четырьмя первыми нумерами, ставятся ещё три следующих, тоже деревянных:
а) налево ковш (алдыр) с короткой ручкой с медовщиной;
б) направо ковш (алдыр), имеющий две ручки, с медовой сытой (шорва);
в) между ними блюдо с мёдом (мӱй тэркэ), спущенным или сотовым (сотовый считается лучше).

Обрядовая свеча (из фондов Национального музея РМЭ им.Т.Евсеева)
Следует отметить, что на жертвенном столе передней частью считается не тот край, перед которым стоят молящиеся, а противоположный, т.е. находящийся ближе к богу, что наглядно представляется
обращёнными в ту сторону ручками ковшей.
Поставив всё необходимое на стол, молящиеся становятся на молитву в семи шагах от молитвенного стола, если конечно позволяет место; при невозможности приходится требованием этим поступиться.
Все стоят в рубашках с поясами и поверх рубах одеты ещё шушпаном (шовыр) тоже с поясом. Мужская часть в белых шляпах, женщины в своём уборе «сорока», а девицы в платках. Все стоят с поднятыми кверху
руками, причем ладони рук обращены вперёд.
Мужчины становятся налево, т.е. на восточную сторону, женщины направо, а дети — мальчики впереди мужчин, девочки перед женской частью. Встав таким образом, просят бога не осудить. Вполне определённых
слов для этого прошения нет, но примерно так:
Это говорит кто-либо из старших в семье. Дочитав (конечно, не по книге, а наизусть) до конца, он обращается к молящимся и просит прощения у всех членов семьи.
При этом от начала молитвы до настоящего момента несколько человек из взрослых играют на гуслях, как говорят сектанты, для смягчения сердца. К этому последнему моменту руки также опускаются. В ответ на это каждый из членов семейства говорит соответствующими его возрасту и положению в семье словами. Малолетние к этому привлекаются, понятно, постольку, поскольку они способны по состоянию возраста и уменья.
По окончании этой взаимноизвинительной части молитвы она доканчивается подобно началу вновь обращением к богу опять с такой же просьбой об извинений промахов, неизбежных по слабостям человеческим, промахов, которые могли получиться при принесении уже самой жертвы. В самых последних словах испрашивается о ниспослании ангела для очищения жертвы и о помощи при добывании живого огня. При этом руки вновь воздеваются. Конец молитвы таков:
После этой молитвы трое из молящихся добывают живой огонь, хотя бы в печке или горнушке и был огонь, сохранившийся от добытого утром.
Все остальные молящиеся в это время стоят на своих местах, причём руки на это время опускаются. Гусляры вновь начинают играть. Играются понятно не простые праздничные мотивы, а мотивы, соответствующие
религиозному настроению молящихся. Моё предложение записать указанные мотивы сначала было принято сектантами, но при первой же попытке к записи по каким-то соображениям они воздержались от своего
согласия.
Огонь добывается и свечи зажигаются. Наступил самый важный момент моления. Все молящиеся, в том числе и умолкнувшие гусляры, воздевают руки и чтец начинает читать наизусть из приведённых выше молитв № 5.
Следует заметить, что последние слова молитвы, именно от слов «ылыкш киндэ» до конца прибавляются к основной молитве всякого моления, как семейного, так и общественного.
По окончании этой последней молитвы начинается трапеза. Все берут в правую руку по ложке с кашицей и в левую по блину или по хлебику, отведывают, стукнув ложками в знак примирения (кумулым штэн) друг c
другом. Так же отведывают медовщины и медовой сыты ложкой же, а некоторые и из ковшика (алдыр).
После трапезы гасят свечи, сжимая светильни с помощью двух лучин. О свечах следует заметить, что если они не догорели до половины, то их употребляют и на следующем домашнем молении: если же сгорят
больше половины, то огарки растопляются для приготовления новых свеч.
Всё со стола убирается и относится для хранения в амбар или чулан.
Всякое моление бывает непременно до полудня, и притом до конца моления не едят и не пьют. Моление и кончается обычно к полудню или немного позднее, т.е. к обеду. Поэтому сейчас же после моления
принимаются за обычную пищу, но уже за другим столом и в другой избе, если моление совершалось в особом доме.
Постоянной пищи за молитвенным столом никогда не едят. И в роще за таким столом вкушают только молитвенные приношения.
Кроме специальных домов или за неимением таковых обычных, моления устраиваются и в рощах. Рощи бывают как естественные, огороженные части в лесу или сохранившиеся группы деревьев на полях, так и
искусственно насажденные на усадьбах. Первые называются «кӱсото», название сохранившееся от общемарийского праздника «кӱсӧ» (хотя этого праздника «кӱсӧ» у сектантов уже нет), но больше называют
«кумалмэ куэрла», а вторые «кудывиц ото» — дворовая роща.
В роще устраиваются моления как обычные домашние, так и моления, называемые «моление со всесожжением», причём в дворовой роще моления со всесожжением бывают только по зимам, а в роще «кӱсото» и летом,
и зимой.
В качестве особо избранных деревьев, называемых, как и у других марийцев, «уна пу», бывают берёза, липа, верба и дуб. Лучше всех считаются берёза и липа, раньше был и дуб; теперь дуб совсем почти
вывелся и в роще.
Моления в роще бывают и частные, и общественные. О сроках и основаниях, по которым устраиваются частные, скажем в главе V «Семейная жизнь», а здесь укажем, в каких случаях совершаются в роще
общественные моления.
Общественные моления в роще бывают нечасто, раза 3—4 в год, иногда больше. Это моления по назначению, по причинам чрезвычайным; напр., по случаю эпидемических заболеваний, войны, неурожая, засухи и т.д.
В них порядок действий тот же, что и в домашнем молении в пятницу, но лишь молитва длиннее и притом вся бескровная жертва сжигается, т.е. со всей даже жертвенной посудой; поэтому и жертва называется
«всесожжением» по-марийски «кӱш колтымо», что значит «направленное кверху». Другое отличие в том, что огонь добывается из растущего дерева, причём орудием, служащим для самого трения, может быть тот
же род песта, который употребляется на домашнем молении или приготовляется особый из материала, иногда соответствующего содержанию моления: напр., перед жатвой из соломы, перед сенокосом из травы и т.д.
Жертвенная обстановка и порядок жертвоприношения перед деревом «уна пу» представляется в следующем виде.
Прежде всего, каждый из пришедших молиться испрашивает про себя у бога разрешения принести жертву в роще. Затем приготовляют всё необходимое для жертвоприношения, т.е. готовят дрова, рассадник и т.д.
Дрова берутся тут же в роще из валежника или нарубаются из сухостоя. А столик, посуда, свечи и все хлебные приношения привозят, приготовив заранее из дому.
Рассадник (шагэ) делается в семи шагах от «уна пу», но он может быть и далее семи шагов. Вышина рассадника не менее семи четвертей, из двух пар колов, прикреплённых к брусу, на которые сверху кладутся
берёзовые брусья длиною около сажени, толщиной как придётся, ширина рассадника также строго не разграничивается.
Рассадник устраивается перед «уна пу» так, чтобы он по ширине встал к Ю.-В., так что молящиеся, если смотреть, от этого дерева, окажутся на С.-З.
На указанный рассадник ставится жертвенный столик, который может быть изготовлен из следующих материалов: из берёзы, липы, вербы, ржаной или овсяной соломы, конопли и травы. Размер столика:
высота 9 вершков, длина верхней доски 9 вершков, ширина 7 вершков, меньшего размера не допускается, но больше может быть.
На столике располагаются жертвенные приношения в следующем порядке:
Посредине три хлебика на медовой сыте (шорва киндэ) из ржаной или овсяной муки, без соли; величина хлебиков не разграничивается, но вообще около 4—5 вершков в диаметре; на каждом хлебике ставится
по семь восковых свеч, причём из каждых семи свеч одна потолще, все остальные одинаковой толщины.
К востоку возле хлебика в деревянной чашке кашица (ньэмыр) и в ней две ложки, рядом с ней бурак с медовщиной (пӱрӧ шовакш), только при молении о взрослом; на западной стороне от хлебика блюдо с блинами
(мэлна тэркэ), рядом с ним бурак с медовой сытой (шэрэ шорва шовакш): в восточной части ещё ставятся два ковша (мужыр алдыр) один с одной ручкой для медовщины, другой с двумя ручками для медовой сыты.
По всему столу в разных местах располагаются ещё маленькие хлебики из овсяной или ржаной муки на медовой сыте числом 21,17 и самое меньшее 7 хлебиков.
Вся жертвенная посуда бывает маленького размера, именно в пропорции, соответствующей размеру уменьшенного столика.
По установлении на столик жертвенной посуды испрашивают у бога очищения приношений. Затем, достав из-за пазухи мешочки с зёрнами, касаются ими взаимно в знак примирения и единения для моления. Следующее
действие — испрошение у живого дерева разрешения добыть огонь, а за ним производится добывание самого огня из сырорастущего дерева.
Добытым огнём зажигаются свечи, одновременно подкладывают огонь и под столиком, сделав на нём клетку из сухих дров; при этом строго следят за тем, чтобы дрова перед «уна пу» складывались комлевыми
концами к востоку.
После этого становятся на молитву, которая заканчивается обычно к моменту, когда сгорит жертвенный столик.
По окончании молитвы испрашивают позволения вкусить пищу.
Наконец, моление заканчивается общей трапезой за столом, представляющим обычно клетку из деревянных обрубков, поодаль от места моления, но может быть стол привезённый и из дому.
После моления через неделю или несколько раньше устраивается краткое моление с просьбой об извинении, прощении за недочёты при главном молении, как то: невольно попранные упавшие крошки от приношений,
возможные отступления от правил по ошибке, по невниманию и т.д. Это краткое моление бывает также со свечами и хлебными приношениями, но всё бывает в ограниченном количестве.
На общественные моления собираются по возможности все последователи секты, извещаемые особо или на последнем общественном молении.
Если моление в роще бывает без всесожжения, то указанный выше специальный столик не ставится, и жертвенные приношения устанавливаются прямо на рассадник, вышина которого в этом случае делается немного
более аршина.
В праздники, как и все празднующие, сектанты не работают, но посвящают время молению, которое может быть оставлено без выполнения только при крайне неблагоприятных для этого обстоятельствах; напр.,
когда сектант окажется вне дома — в дороге или может помешать молению присутствие посторонних.
Всё остающееся после моления время заполняется отдыхом и притом, следует заметить, вполне соответствующим их аскетическому мировоззрению. Действительно, здесь вы никогда не увидите ни разгульных попоек,
часто сопровождаемых ссорами; не увидите и азартных игр в карты или орлянку; здесь почти совсем нет и семейных дрязг, так часто наблюдаемых у других; никогда не услышите и сквернословия как от старших,
так и от младших.

Во время традиционного моления
(фрагмент экспозиции Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева)
Но отсутствие работы в праздник не означает полного ничегонеделания. Работы выполняются, но самые неотложные, как напр., кормление скота, приготовление пищи и т.д.
Отсутствие веселья у сектантов также не означает, что они не имеют никаких увеселений.
Но в увеселениях их лежит какой-то особенный отпечаток умеренности и скромности, что правда придаёт им весьма однобокий характер: так напр., очевидно в целях предупреждения соблазна, совместных игр
парней и девушек не существует, а играют парни с парнями и девушки с девушками.
Из других более культурных видов развлечения, как например, пользование произведениями устного народного творчества, секта также не может похвалиться.
Сказывание сказок и загадывание загадок почти совсем не развито. Наблюдаются лишь сказания, связанные с моментами гонений и историческими этапами в развитии секты. Существует также много объяснений
суеверного характера относительно дозволенного и недозволенного в быту сектантов (о некоторых из них уже было сообщено в своём месте) и этого материала в общем почти достаточно, чтобы удовлетворить
невзыскательные запросы и досуг сектантов.

Члены секты во дворе Якмановых
(фото из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева)
Наиболее интересными в целях коротания досуга сектантов являются материалы из песенного и музыкального творчества. Но, к сожалению, и в этой области творчество ограничивается словами и мотивами
религиознонравственного содержания. В них воспевается величие бога и выражается скорбь о греховности людей. Или они рисуют подвиги какого-нибудь сектанта-героя, пострадавшего за свою религию.
Положительной стороной в них является чистота в музыкальном отношении, именно все они построены на пятинотной восточной гамме. И несколько они связаны с религиозным культом, явлением слабо поддающимся
эволюции, постольку и развитие их почти незаметно.
Из музыкальных инструментов приняты только гусли и барабан. На гуслях играют как мужчины, так и женщины; последних сравнительно немного. Игру на гуслях можно наблюдать не только в праздники, но и в
будни, когда окажется свободная минута и настроение. Барабан же раньше употреблялся и на молениях для созыва молящихся после перерывов, но теперь можно видеть только на свадьбах.
1. Семейная жизнь. Брак.
Брак заключается по обоюдному согласию жениха и невесты, но при непременном условии, чтобы оба были из кугусортинцев; или если жених или невеста не кугусортинцы, то брак допускается только по
вступлении иноверца из брачущихся в секту.
Свадебные обряды сектантов в основных чертах сходны с обрядами других марийцев вообще, но в деталях имеют много отличного.
Возраст для брачущихся — жених 18 лет и невеста 16 л. Способ брачения через сватание, умыкания не допускаются.
Прежде чем ехать сватать невесту, жених приготовляет медовщину из 1 фун. меду и 7 ф. ключевой воды, также восковой круг из 7 ф. воску, каравай хлеба в 9 фун. на медовой сыте без соли и стол для жертвы
всесожжения со всей необходимой для этого посудой, также из воску. Правда, в настоящее время за неимением достаточного количества воска означенный столик с посудой приготовляется уже из вербы.
Кроме того, для обычных угощений при сватаний и на свадьбе вообще заготовляется медовшина особо.
Девица же приготовляет для свадьбы овсяный хлеб на масле, весом в 7 фунтов.
Новый этап — смотрины. Это выполняется через сватуна, который обычно бывает из деревни невесты. Захватив медовщины ведро, три овсяных хлебика, один творожник, каравай ярового хлеба (всё из материалов,
приготовленных для молитвенных целей), жених с отцом и сватуном являются в дом невесты.
Разместив угощения на столе, сватун сообщает хозяевам о цели их посещения и испрашивает позволения угостить. Затем сватун наливает в ковши медовщины последовательно для отца и матери невесты.
Приняв ковши, те ставят их пока на стол. Тем временем жена сватуна приводит и девицу. Сватающие при этом говорят ей: «Кумулэт уло гын, качэ лэц пӱрӧ коркам куцо. — Если отвечает твоему сердечному
расположению, то прими ковш с медовщиной от жениха». Затем с такими же примерно словами и жених подаёт девице ковш с медовщиной.
Успех сватания зависит от ответа невесты. Если она откажется от предложения, то сватающие, захватив все свои угощения, сейчас же раскланиваются и уходят. При положительном ответе невесты родители её и
со своей стороны приносят на стол угощения.
Однако взаимоугощення начинаются не сразу. Сначала устраивается моление. Приносят молитвенный стол и всё необходимое для моления. На этот стол ставят и угощения сватающих. Все одеваются в молитвенную
одежду. Сватающие приезжают предупредительно в молитвенной одежде. Слова молитвы те же, что и на молении в пятницу.
По окончании моления кто-либо из сватающих берёт ковш с медовщиной с молитвенного стола и подаёт невесте. Невеста, положив на предложенный ковш род полотенца из холста (солык) длиною около 2 арш.,
подаёт обратно жениху со словами: «Мыйым йӧратэн налат гын, тидэ коркам куно. — Если берёшь меня по любви, то прими этот ковш». Жених принимает ковш, а невеста полагает полотенце ему на правое плечо.
При этом медовщина для жениха, как и всем сватающим, наливается от принесённого хозяевами, а последним, наоборот, от привезённых гостями. Следует заметить, что, в целях подготовленности к свадебным
церемониям, заинтересованные стороны взаимно извещают друг друга заблаговременно.
В том же порядке, невеста награждает отрезами холста, но не длиннее рукава, и всех сватающих.
Затем невесте вручают налитый для неё ковш с медовщиной.
И уже после этого все, взяв ковши с медовщиной и чокаясь, отпивают немного, снимают имеющиеся на плечах подарки и кладут их за пазуху или в карманы. За выпивкой отведывают от всех приготовлений с
молитвеного стола: кашицу (ньэмыр), блинов, хлебиков и т.д. И здесь, непременно взяв в руки, касаются отведываемыми частями приношений. Свечи гасятся, убираются и за этим же столом устраивается трапеза
из молитвенных приношений.
Молитвенная трапеза сменяется вкушением пищи за обычным столом. Во время угощения происходит и соглашение относительно вена (калым выкупа за невесту) и приданого. Однако, если из договаривающихся
сторон все являются кугусортинцами, то собственно договора, как такового не бывает, т.к. каждая сторона вполне полагается на совесть другой. Этим заканчивается первая часть — сватание, и гости уезжают.
Через несколько дней жених со сватуном приходят в дом невесты, чтобы дать мерку на свадебную одежду для жениха.
Вскоре затем приезжает к родителям невесты и отец жениха, для соглашений о сроке свадьбы. Особенных правил о сроках нет, но всё же дело не затягивается, если только не помешают какие-либо обстоятельства,
связанные с самой свадьбой, например приготовление одежды, вступление в секту и т.д.
Здесь следует заметить, что до самого начала главных свадебных обрядов жених и невеста проводят время в посте: обычной пищи совсем не едят, а употребляют только пресные (не квашеные и без соли) овсяные
или ржаные лепёшки, приготовленные из муки, смолотой из отборных зёрен.
Пьют также только молоко и воду. Кроме того, ежедневно делают омовение всего тела. Если есть время, то оно длится семь недель, кратчайший же срок семь дней, но тогда омовение ежедневно делается по семи
раз.
К назначенному сроку жених приглашает на свадьбу родных и знакомых. Последние собираются к жениху без колокольцев, барабана и волынки. Волынки в настоящее время совсем нет, но барабан имеется в каждом
доме.
Дальние приезжают в среду вечером. В четверг устраивается моление. Слова моления и жертвенные приношения те же, что и в обычную пятницу.
После моления бывает небольшое угощение. Тогда же родители жениха назначают организаторов для свадебных церемоний, именно следующих лиц:
Сӱан вуй — тысяцкий.
Вуй пунчышо (сорока шындышэ) — женщина, наряжающая невесту головным убором замужней.
Савуш — дружка.
Тудын полышкалышыжэ — помощник дружки.
Кугу винэ — особое лицо, помогающее жениху в случаях затруднений при выполнении брачных церемоний.
Пӱраш марэ — лицо, доставляющее гостинцы жениха невесте.
Пӱраш ватэ — жена предыдущего лица.
Кыслазэ — гусляр.
Тӱмӱрзӧ — барабанщик.
Куштызо, модыш вуй — плясун, организатор веселья.
После назначения, тысяцкий берёт гусли и сыграв несколько для начала, даёт их гусляру. Таким же образом он даёт знак и барабанщику.
При звуках гуслей и барабана плясун начинает плясать. Пляшет и один, и с другим мужчиной или женщиной.
Хозяева угощают гостей, а последние, угощаясь, беседуют, говорят шутки, поют, пляшут и т.д. И это угощение продолжается примерно до
полуночи.
Затем участники свадьбы трогаются и отправляются в дом невесты. Поезжане размещаются и едут в следующем порядке:
1. Тысяцкий с женой или дружкой, на козлах кто-нибудь из его детей.
2. Дружка с женой или пӱраш марэ, пӱраш ватэ.
3. Помощник жениха с женщиной, назначенной наряжать невесту.
4. Гусляр с барабанщиком. Если с жёнами, то в отдельных экипажах.
5. Плясун и другие.
Свадебный поезд трогается уже после полуночи, едет без колокольцев, но на гуслях играют и в барабан бьют.
Если было обещание заехать к сватуну, то выезжают немного раньше. У сватуна задерживаются очень недолго, чтобы лишь почтить. Предупредив через сватуна родителей невесты, тотчас же и отправляются к ним.
К приезду поезжан родители невесты предупредительно назначают от себя следующих организаторов:
1. Шарвоч, ӱдыр савуш — дружка со стороны невесты, он же помощник для отца невесты. Это лицо — мужчина и притом большей частью из женатых.
2. Ончыл шогышо — из девиц, это постоянный спутник невесты.
3. Чаза кучышо — из замужних женщин. Она принимает гостинцы, привезённые для невесты и кроме того помогает матери её.
Дружка невесты отворяет ворота и впускает поезжан. Лошадей выпрягают не тотчас. Организаторы церемоний становятся пред крыльцом, располагаясь по степени важности своих обязанностей. Первым входит
дружка жениха. После приветствий он наливает медовщины для отца и матери невесты. Они с чашами в руках садятся за стол, а сам, получив чашу с медовщиной от дружки невесты, выходит с чашей и
вручает жениху. Таким же образом он вручает чаши и остальным организаторам свадьбы, вынося каждый раз для одного лица.
Затем жених вынимает из-за пазухи свечу, берёт её в правую руку, левой рукой держит чашу с медовщиной.
К этому же времени выходит из дому и невеста, держа в левой руке свечу, в правой — чашу с медовщиной.
Дружки невесты с её постоянной спутницей также выходят с чашами в руках.
Невеста говорит: «Налмат годым налат, ончыкыжо кузэ ашнаш шонат?» — Смысл выражения: «Сейчас ты меня берёшь, но как ты думаешь содержать в будущем?»
Жених отвечает: «Кумыл дэнэ налам, сай илаш шонэм». - «Беру по сердечному расположению, думаю жить по хорошему».
Потом жених с невестой чокаются чашами и касаются свечами (свечи ещё не зажжены). Также чокаются чашами и все другие, и все осушают чаши.
Сейчас же невеста становится по правую сторону жениха; возле невесты её спутница, возле жениха его помощник.
Затем ближе всех к входу в дом становится дружка невесты, за ним помощник жениха, жених с невестой и все прочие; в таком порядке входят в дом.
Входя гости приветствуют родителей невесты; те, не выходя из-за стола, но лишь вставая отвечают на это и все чокаются с ними своими чашами, которые после этого ставятся ими на молитвенный стол,
предупредительно поставленный заранее. Жених с невестой ставят свои чаши рядышком, также в особую посуду ставят и свои свечи.
И лишь после этого отец невесты выходит из-за стола и предлагает тысяцкому распрячь лошадей, раздеться и расположиться, как подобает гостям. Тысяцкий даёт распоряжение дружке жениха, который объявляет
его поезжанам. Все, собственно мужчины, направляются во двор и распрягши лошадей входят обратно, раздеваются и принимают молитвенную позу.
Слова молитвы те же, что и в обычную пятницу, но по окончании их вычитывается ещё специальная молитва о брачущихся.
После моления молитвенный стол отставляется в сторону.
Жених с невестой усаживаются рядом за стол на красное место. Другие также садятся в соответствующие места согласно указаниям дружек.
Далее веселье принимает более непринуждённый вид: без какого-либо порядка поют, играют, пляшут и т.д. И этот вид празднества продолжается до утра. Но всё же участники его трогаются с таким расчётом,
чтобы до полудня можно было совершить в роще моление со всесожжением.
Следует при этом заметить, что жених с невестой до конца жертвы со всесожжением ничего не пьют и не едят кроме молитвенных приношений.
Перед отправлением в рощу, невеста, одевшись в дорожную одежду, подаёт чаши с медовщиной отцу, матери и всем остальным в своей семье. Одновременно с чашей она вручает им холста, каждому в количестве,
достаточном для изготовления рубашки или по готовой рубашке. Матери, кроме того, даёт головной убор — «сорока». Подарки полагаются им на плечи. Этим выражается ею благодарность за попечение их, за
воспитание. Жених также принимает участие в пожеланиях невесты. Отец говорит им: «Сай кумыл дэнэ ылыда, йумым-пӱрыкшым ида мондо». — «Живите в согласии, не забывайте бога-создателя».
Взявши чаши, осушают их. Невеста и жених целуют отца и мать невесты и всех остальных членов семьи до семи раз и уезжают.
Если до молитвенной рощи близко, то едут отец и мать, при дальности отец посылает вместо себя другого.
Если роща по пути, то едут прямо туда; в противном случае, заехав в дом жениха, оставляют там лишнюю одежду и потом уже отправляются в рощу.
Дружка невесты, спутница её и помощница её матери остаются в доме невесты.
Жертвенные приношения в роще бывают уже приготовлены со стороны жениха. Кроме того, поезжане также доставляют: два бурака — один с медовщиной, другой с медовой сытой, семь овсяных хлебиков,
приготовленных на медовой сыте (шорва киндэ); к ним два ковша: для медовщины с одной ручкой, для сыты о двух ручках.
В рощу едут также с игрой на гуслях н барабанным боем.
Отправляются в том же порядке, как было уже сказано выше.
По приезде лошадей не распрягают, а лишь привязывают у края рощи.
Прежде чем войти в рощу, снимают обычную верхнюю одежду, оставляют её на экипажах и идут в рощу в молитвенной одежде.
Перед «уна пу» в 7-ми шагах от него ставят семь столов, приготовленных нз материалов, соответствующих 7-ми органическим началам, величиной — 17 верш. выс. н по 17 верш, длины и ширины у столешницы.
На каждом столе ставятся свечи и кладутся приношения для каждого из 7-ми начал.
Встав пред молитвенным деревом (уна пу), жених с невестой достают из-за пазухи свои свечи. После добытия живого огня в процессе моления они зажигают свечи, взяв огонь сначала на лучину и затем той же
лучиной оба дают заняться огнём молитвенному столику всесожжения, поставленному на род стола (шагэ) перед деревом. Другие из молящихся зажигают свечи на означенном малом столике.
Сейчас же по зажжении начинают вычитывать слова великого моления (кӱсото кумалтыш мут). Во время вычитывания молитвы все главные лица свадебной церемоний идут по солнцу, заключая в круг хождения и
дерево уна пу, и семь столов. Идут в таком порядке: впереди всех идёт молодой человек 14—15 лет из более скромных с 7-ю пестами обыкновенной величины из 7-ми видов материала (берёзы, конопли, соломы
ржаной, вербы, липы, овсяной соломы и сена); песты несутся положенными на правой руке стоймя с поддерживанием. За ним идут жених и невеста и притом парой, а за ними гусли и барабан по 7-ми штук;
все играют; и, наконец, все остальные по списку.
Сделав один круг, останавливаются и брачущиеся оба говорят враз:
«Айдэмылан тӱҥ годым куцэ пӱрымаш улмаш мужыраҥаш, мэ ту пӱрымаш поштэк мужыраҥына». — «Мы брачимся согласно тому определению судьбы, как было суждено человеку брачиться раньше (в самом
начале).
Затем вновь все идут кругом, причём гусляр и барабанщик играют соответствующие моменту номера, а из прочих некоторые говорят молитвенные слова. При каждой остановке после вращения игру и вычитывание
молитв также приостанавливают и, воздевая руки, делают лёгкий поклон головой.
Указанное круговращение делается семь раз, и приведённые выше слова произносятся тоже семь раз.
После седьмого вращения невеста отдаёт жениху свою свечу и женщина, назначенная для наряжения невесты убором замужней, вместе с постоянной спутницей невесты убирают голову последней головным убором
«сорока» и повязывают платком. Затем опять ставят её на правую сторону жениха. Невеста принимает от жениха свою свечку, и тогда же они целуются семь раз. Слова молитвы вычитываются с таким расчётом,
чтобы закончить её всю к последнему указанному моменту.
Начинается молитвенная трапеза из жертвенных приношений. Начиная её, жених с невестой, касаясь взятыми в руки частями приношений, опять целуются семь раз.
Свечи как на столе, так и в руках брачущихся гасятся особыми лопаточками. Огонь остаётся только на столе всесожжения. Брачущиеся кладут свои свечи опять за пазуху.
Убрав со столов свечи, всю посуду и поставив их в сторонку, продолжают начатую трапезу, одни стоя вокруг обыкновенного стола или на скамейке, а другие сидя.
По окончании трапезы уезжают в дом жениха. Если отец жениха был на молении, то уезжает домой несколько раньше и по приезде поезжан выходит с женой встречать гостей.
Выйдя из экипажей, брачущиеся становятся перед крыльцом, опять взяв в руки свои свечи.
Родители жениха выходят — отец с бураком, в котором поставлено девять свеч, у матери в руках какое-либо кушанье. Оба становятся недалеко от крыльца, причём они стоят против брачущихся так,
что жених приходится против отца, а невеста против свекрови.
Отец обращается к сыну и невестке с такими словами: «Мом шӧнан толын улыда?» — «С какими мыслями (с намерением) прибыли вы?» Те отвечают: «Йӱмым пӱйрыкшым шонэн, кумал жаплэн илаш толын улына.
Кудо-вицэ куцат шонэн толын улына. Атьанам-аванам жаплэн илаш толын улына». — «Мы прибыли, имея в мыслях бога-создателя, с целью жить почитая, с молитвой. Мы прибыли, чтобы вести хозяйство. Мы прибыли,
чтобы жить, почитая отца и мать».
Отец вновь: «Иумым-пӱйрыкшым кумал жаплэн илаш, кудо-вицэ куцэн, атьам-авам жаплэн илаш толында гын, йумо-пӱрыкшӧ тыланда кудо- вицэ куцэн илаш, шочшан-кушшан лийын, йумым-пӱрыкшым жаплэн илаш
пӱрэн пужо. Йӱмын йӱрмӧ погым куцылтын илаш, эрган-ӱдыран, шэшкан- виҥан, туларан-тулацан лийын илаш пӱрэн пужо».
— «Если вы прибыли, чтобы жить молясь и почитая бога-создателя, жить, ведя хозяйство и почитая отца с матерью, то пусть бог-создатель благословит вас жить для ведения
хозяйства, жить имея детей и почитая бога-создателя. Пусть благословит (бог-создатель), чтобы жить пользуясь созданными богом-создателем материальными благами, имея сыновей и дочерей, невесток-зятьёв, сватов и сватий».
После этих слов брачущиеся касаясь свечами опять целуются семь раз.
Наконец, держа в руках свечи, сначала брачущиеся, а за ними и остальные входят в дом, снимают верхнюю одежду и садятся в красный угол. При этом, прежде чем молодые сядут за стол, отец с матерью обходят
вокруг стола по солнцу, после чего отец ставит бурак со свечами туда, где хранится молитвенная утварь, а мать ставит блюдо с кушаньем на обыкновенный стол. Родители за стол не садятся, но все остальные
гости садятся за стол на местах, соответствующих положению каждого.
Гостей угощают разными кушаньями и напитками, но не спиртными, причём н медовшина бывает сравнительно слабая. Гости беседуют, говорят шутки, поют, пляшут, играют на гуслях, барабанщик бьёт в барабан.
Для пляски играют на гуслях и бьют в барабан одновременно; пляшут по одному: или двое мужчин или две женщины; пляшут и парни с замужними женщинами, но больше пляшут парень с парнем. Девушки и мальчики
на свадьбу ходят, но не пляшут.
Однако свадебный пир принимает наиболее оживлённый вид лишь после того, как гости сменят молитвенную одежду на обычную. А эта смена выполняется почти незаметно, вскоре после первых приёмов угощения.
Убирающая голову невесте с постоянной спутницей-помощницей её отправляются, чтобы достать из узлов, мешков и т.д. пожитки невесты и расположить их на новые места. Они идут в сопровождении дружки жениха.
Сделав своё дело, возвращаются назад. Молодушка приносит в дом приготовленные ею для жениха бельё, холщовую поддёвку, пояс и проч. и вручает молодому.
Затем они отправляются, чтобы сменить молитвенную одежду на обыкновенную. Идёт и жених. В момент смены одежды, молодые относят свои свечи туда, где лежит молитвенная утварь. Остальные гости также
постепенно сменяют свою одежду.
Жених возвращается раньше. Вслед за ним приходит и невеста.
Дружка вручает молодым - сначала молодому, потом молодой по ковшу медовщины. Молодые, встав друг против друга, чокаются ковшами, отпивают и целуются и все эти действия (за раз по три — чокание,
отпивание и целование) последовательно выполняются до семи раз. Потом становятся, устремляя взоры на красный угол.
За этим следует приготовление молодушкой положенной по обычаю лапши (орйыҥ лашка).
Готовить лапшу идёт молодушка с указанными выше помощницами.
Пока готовится лапша, жених продолжает угощать гостей тем, что имеется на столе.
Но вот молодушка приносит лапшу (обычно молочную) в котле, сварив её в шалаше; котёл ставит к углу печки или на шесток.
К этому времени дружка подаёт молодушке медовщины в ковше. Выпив, она возвращает ковш дружке. Дружка вновь наполняет и подаёт ей; молодушка подаёт молодому, который тоже выпивает и возвращает ковш дружке.
Ковш вновь наполняется, но теперь молодушка возвращает не выпив дружке, который ставит ковш на стол.
Молодушка ставит на стол лапшу в блюде. Свёкор со свекровью садятся за стол. Прежде чем они начнут кушать, молодушка вручает им приготовленные заранее подарки; свекору — рубашку, свекрови — головной убор
«сорока» или платок.
Затем происходит угощение лапшой. Угощают и прочих гостей.
За угощением молодушка одаривает всех организаторов свадьбы сообразно положению и значению каждого. В числе подарков бывает самый крупный — рубашка, или холст в количестве достаточном для этого,
самым маленьким бывает отрез холста величиной с квадратный платок.
После вручения невестой подарков гости задерживаются недолго. Молодых отправляют спать.
Из гостей ближние отправляются домой тогда же, а дальние остаются ночевать.
Как продолжение свадебных обрядов, отметим, что молодые в первую неделю после свадебного торжества питаются главным образом двумя указанными выше сдобными хлебами — один от жениха, другой от невесты.
Брак считается нерасторжимым, и до последнего времени среди сектантов не наблюдалось случаев развода. Запись о брачущихся делается в установленных для этого учреждениях. Но о записях в прежнее время
надо сказать, что они обуславливались для сектантов большими мытарствами, т.к. за сектантами, как за отпадшими от православия, не признавали права для брачных уз по-кугусортински. Например, так было
поступлено с Тихоном Алексеевым и Антоном Ивановым Якмановыми.
После брака, в разные периоды жизни, устраиваются ещё особые моления о благополучии семейной жизни вообще, а именно:
По исполнении мужу и жене 26 лет моление в роще с жертвой всесожжения, при участии родственников и друзей.
Затем последовательно по исполнении 28, 30, 32, 36, 39, 69 и 89 лет такие же моления.
Моление по исполнении 89 лет считается последним именным молением.
Заметим о порядке в молениях при неравенстве лет супругов, что, конечно, чаще всего и бывает в жизни.
Если и муж, и жена одногодки, то для обоих устраивается моление одновременно. Если не одних годов, то для каждого особое моление, причём он (муж) бывает на молении о жене и наоборот.
Если же человек женился старше 26, 28, 30 лет и т.д., равно и женщина пропустила указанные сроки до замужества, то и молений о благополучии семейной жизни, соответствующих этим годам уже не бывает.
Рождение ребёнка и моления в разные периоды его жизни, до достижения им совершеннолетия.
Вопросу о благополучном рождении и воспитании детей сектанты придают чрезвычайное значение, и молений об этом очень много, даже больше, чем о счастливой супружеской жизни. Моления эти следующие:
1. Молитва за девять недель до рождения ребёнка о благополучном проведении матерью времени до разрешения от бремени.
В определении времени, остающегося до рождения ребёнка, конечно, ошибки неизбежны, и сроки молений до указанного обстоятельства следует считать приблизительными.
2. Моление, подобно указанному под № 1, за семь недель до рождения ребёнка.
3. За неделю до рождения моление о благополучном рождении ребёнка.
Моления под № 1,3 приурочиваются непременно к пятнице, и
слова молитвы те же, что и в пятницу, и только в конце прибавляются соответствующие данному обстоятельству слова.
4. В день рождения в благодарность и о даровании здоровья ребёнку и
его матери.
5. В третий день по рождении тоже о здравии. Тогда же даётся ребёнку имя отцом, матерью или бабкой.
Примечание. На молениях, обозначенных № 4 и 5, и мать, и ребёнок не участвуют.
6. В седьмой день тоже о здравии с благодарностью за прожитое.
7. В 9, 17 и 19 дни подобное же моление.
Примечание. Все моления под №№ 1 и 7 домашние.
8. В 21 день моление о здравии новорождённого. Оно устраивается уже в роще, с жертвой всесожжения и с участием родственников и кого-либо из других членов секты.
9. Через полгода обычное домашнее моление, только со свечами.
10. По достижении ребёнку 2-х лет моление в роще со всесожжением.
11. Затем последовательно такие же моления в роще со всесожжением при участии родственников и друзей устраиваются по достижении б, 8, 16, 18 и 20 лет.
Моления за дочерей и сыновей по достижении 16, 18 и 20 лет, кроме обычного прошения о здравии, устраиваются в целях испрошения о непорочной брачной жизни. На последнем молении, т.е. по достижении 20 лет,
отец даёт сыну или дочери благословение (сугынь) и предоставляет их собственной воле. После этого сын и дочь начинают молиться за себя уже сами. Моления устраиваются ими по достижении 26, 28, 30 и т.д.,
т.е. в те же сроки, какие установлены для молений лиц, находящихся в браке.
По представлению кугусортинцев, болезни насылаются людям в наказание за грехи через злого духа. Злой дух получает доступ к человеку благодаря его грехам, причём бог допускает духа ради исправления
человека.
Приписываются болезни также колдунам и злым людям вообще.
При болезнях, если заболевание не тяжелое, устраивается домашнее моление с участием членов лишь своей семьи. При тяжёлых заболеваниях приглашаются родственники и друзья больного. В случае сильной
слабости, например, женщины при беременности, также устраивается моление.
При помощи заговоров болезни не лечат. Значение медицины и лекарств принципиально не признаётся. Предохранительные прививки считаются делом греховным. Однако отрицание медицины полностью в жизни не
проводится, т.к. иногда всё же обращаются в больницу и к врачам. Известно, что один из вожаков секты А.А. Якманов, принятый на военную службу, будучи сектантом, прослушал (по собственному желанию)
фельдшерские курсы и получил звание ротного фельдшера. Незадолго до смерти он обращался к медицинской помощи в Казани, купил лекарства и лечился.
Указанное противоречие сектанты признают, но допускают в этом отношении компромисс, соглашение, как некоторое неизбежное зло.
1. Смерть и погребение умерших, моления о них и загробные верования кугусортинцев.
Как и у других марийцев-язычннков, пред смертью сектант, если это глава семьи, делает завещания, касающиеся распределения имущества между детьми или вообще младшими членами семьи. Но если и не глава,
то всё же, умирая, высказывает свои последние пожелания. Как завещание, так и пожелание умирающего вообще марийцами особенно уважаются, а сектантами ещё более, и потому при недоразумениях в семейной
жизни обращаются к нему, как к решению последнему, неоспоримому.
Покойников, взрослых, хоронят на третий день, малолетних и раньше. Обряд погребения у сектантов в общем похож на обряды других марийцев. Но имеется кое-что и отличительное.
Наблюдаемый почти у всех народов безотчётный страх перед покойниками и такое же отвращение к трупу его, как к чему-то нечистому, сектантами вполне сознательно подавляется.
После обычного омовения трупа покойника, одной лишь тёплой водой без мыла, на покойника надевают совершенно неношеное, новое бельё; если нет нового, то надевают выстиранное молитвенное бельё.
Поверх рубашки опоясывают поясом и одевают холщовую поддёвку новую или молитвенную. Поддёвка тоже опоясывается, у мужчин холщовым поясом (мыньэр кӱзан ӱштӧ), у женщин белым нитяным поясом. На голову
и летом, и зимой мужчинам надевают белую шерстяную шляпу; при неимении шляпы надевают белый холщовый колпак. Замужней женщине на голову надевают новый головной убор «сорока», девице новый холщовый платок.
На ноги мужчинам навертывают белые холщовые портянки; женщине ступню обертывают такими же портянками; выше ступни надевают паголенок из белого сукна. Портянки навёртываются самым обычным образом.
Как мужчины, так и женщины обуваются в лапти.
Гроб делается из еловых или сосновых досок, наподобие сундука или ящика, стенки связываются в замок, заколачивается гроб деревянными гвоздями. Конец гроба для головы делается шире, чем для ног.
Гроб ставится в комнате на особой скамейке или на обычной скамейке возле стены.
Затем внутренность гроба подвергается очищению живым огнём.
Дно гроба устилают сухими березовыми листьями, поверх листьев отрез нового холста по длине гроба.
Наконец, кладут покойника в гроб. В правую руку покойника кладут квадратный отрез холста со сторонами по ширине ткани. При этом говорят: «Сорта кучашэт лийжэ». — «Пусть (это) будет тебе для
придерживания свечи». Варежек не надевают. На лоб кладут лоскуток холста, шириной в 2—3 вершка, длиной по ширине ткани, сложив его в виде треугольника. При этом говорят: «Кийаматышкэ мийэн пурашэт лийжэ».
— «Пусть (это) будет тебе, чтобы явиться на тот свет». После всего этого сверху по длине тела покрывают белым холстом.
Всё сказанное выше, кроме материала гроба, подстилки из листьев и белого покрывала сверху, представляет отличие в сравнении с другими марийцами. Но более существенным является отличие в поминовениях.
Тогда как у других марийцев отсутствует молитва за умершего о прошении грехов его, у сектантов это возведено в правило, как первая необходимость для умиротворения души покойника.
Перед выносом покойника делается краткое моление. На молитвенном столе в бураке ставится семь свеч, из которых одна потолще других — назначается ангелу-хранителю покойного (йӱрмаш ылыкш вуй йӱмыжлан).
На столе же ставится на небольшом блюде род овсяного киселя, без соли, тарелка с овсяными блинами, медовая сыта и медовшина.
Об испрошении прощения грехов покойного можно видеть и из самых молитвенных обращений. В конце молитвы по покойнику имеются следующие слова:
«Мэ тудын чон вэрцын тышэцын йодына, тудо тушто йӱрмаш вуй йӱмыжым сорбалыжэ. Йӱрмаш вуй йӱмыжӧ адаш сулык вэрцын ындыралтма гыц сорбалэн, сулэн лукшо, виктарэн тӱҥ ылыкш кугу йӱмын, кугу пӱрыкшын
сай вэрышкыжэ пуртыжо, волгыдо тӱньашкыжэ шкэ лишкыжэ наҥгайыжэ».
Это значит:
«Мы отсюда просим за него, пусть он там умоляет своего ангела- хранителя (букв.: определённого для его головы бога). Пусть его ангел- хранитель, умолив от мучений за грехи в аду, выкупит (его):
исполнив (это), пусть доставит (букв. = унесёт) к себе в добрый светлый мир, в хорошее место великого создателя, великого бога первожизни».
После моления все прощаются с покойником, целуя его в губы или щёку. Затем, если народу достаточно, несут гроб с покойником на руках; в противном случае везут на соответствующем времени года экипаже.
Крышку от гроба несут отдельно.
Одновременно с гробом несут и семь свеч, которые были употреблены для моления по покойнику. Эти свечи все берутся, как одна, в горсть; кроме этого несут ещё две скамейки. К моменту прихода с покойником
могила бывает уже готова. Могилу роют глубиной до сажени и глубже. Направление могилы делается с Ю.- В. на С.- З., причём головой кладут покойника на С.- З.
По приходе на кладбище гроб ставят временно на принесённые две скамейки. Затем, открыв покрывало лицевой части, обращаются со следующими словами:
«Куцэ андэмэ капым мӱдаш (тойаш) тӱҥалын улыт, йӱрмаш поштэк ала куцэ. мэ огына пала. Калык лыштымэ поштэк мэат мӱдэна». — «Как начали хоронить тело человека в землю, может быть, так предопределено,
мы не знаем. Мы хороним вслед (= подражая) поступкам народа (= других людей)».
После этого задёргивают покойника покрывалом и, заколотив крышку, опускают в могилу. Гроб опускают при помощи верёвок и полотенец. При этом говорят: «Вэрэт шокшо лийжэ». — «Место твоё пусть будет тепло».
Затем, бросив по комку земли со словами: «Ит лӱд». — «Не бойся», зарывают лопатами железными или деревянными.
Верёвки и полотенца уносят домой.
В то время как одни занимаются погребением покойника, остающиеся дома прибираются: щепу и стружки, получившиеся при изготовлении гроба, сжигают; тряпки, употреблявшиеся при обмывании покойника и бельё,
снятое с него по смерти, стирают и закапывают в землю. Оставшиеся от покойного другие пожитки — одежду, утварь и прочее употребляют остальные члены семьи.
К моменту возвращения погребавших в избе бывает уже примыто и убрано, также готовится и баня.
Всем участвовавшим на погребении предлагается поминальный стол, однако без спиртных напитков. Следует ещё отметить, что подобно другим марийцам не делают и отливаний и отбрасываний от кушаньев.
Огарки от свеч, употреблявшихся на молении по покойнику, впоследствии растопляются и идут на какое угодно моление.
После угощения участников похорон хозяева провожают самым обыкновенным образом, как обычных гостей.
Третины (кумытшо) по покойнику не справляют.
Но седьмины (шымытшэ), считая седьмой день со времени смерти, справляются. Также устраивается моление с участием родных и друзей. На этом молении также зажигают семь свеч и просят ангела-хранителя
покойного, чтобы он ходатайствовал пред богом о прощении грехов умершего.
В сороковой день, считая тоже с момента смерти, устраиваются сороковины (нылдыжэ). Бывает моление уже в роще с жертвой всесожжения.
Но кроме указанных разовых молений по покойникам, устраиваются и постоянные, которые приурочиваются к еженедельным домашним молениям и общественным.

Поминки на 40-й день
(фото из фондов Национального музея РМЭ им.Т.Евсеева)

Поминки в Петров день
(фото из фондов Национального музея РМЭ им.Т.Евсеева)

Поминки в Семик.
фото из фондов Национального музея РМЭ им.Т.Евсеева
По покойникам, ознаменовавшим себя чем-либо замечательным в религиозном отношении, устраивается торжественное моление через год, три года или через семь лет, смотря по представившейся возможности,
в роще с жертвой всесожжения.
Загробные верования кугусортинцев в общем похожи на общемарийские, но имеют и некоторые особенности.
Душа представляется также отделяющейся от тела по смерти человека. Она уходит в другой, загробный мир, который рисуется также в виде двух половин — светлой для праведников и тёмной для грешников.
Интересны представления о постепенных изменениях земли, а в связи с этим и условий жизни на ней, представления, примыкающие к загробным верованиям. Они совпадают и с научными данными об охлаждении земли.
По представлению кугусортинцев, существование жизни на земле будет продолжаться в течение 17-ти эпох и настоящая эпоха в существовании её считается девятой. В эту эпоху предполагается вознесение
последователей секты вместе с деревьями и растениями, посаженными во дворах их по числу указанных выше семи низших начал-посредников. Однако и после 9-й эпохи жизнь на земле не прекратится и будет
продолжаться до конца 17-й эпохи, правда с прогрессивным изменением условий жизни к худшему. И лишь после окончания 17-й эпохи жизнь на земле прекратится совершенно.
1. Организационные моменты в жизни секты.
Вопросы о старшинстве и руководстве в делах веры и повседневной жизни.
В то время, как у прочих марийцев-язычников имеются жрецы (карт, она йэҥ) и их помощники (учо), у сектантов нет даже самых названий для этих должностей. Правда, у язычников этот институт тоже
нельзя считать организованным во всех отношениях: нет особенного контроля деятельности жрецов, выборности, специальной подготовки к этому делу и т.д. Но зато там замечается своего рода кастовая
преемственность: жреца сменяет по смерти его помощник, последнего следующий помощник и т.д. Кроме того, они являются организаторами в оформлении молитв и обрядов; они ходят на все общественные и
частные молебствия по требованиям; им же принадлежит решающая роль в определении того, быть или не быть какому-либо молению в известное время и т.д.
У сектантов в указанном отношении можно различать только старших и руководителей, но и они выделяются не по избранию, а, так сказать, само собой, в процессе работы. Таковыми являются: лучше других
знающие сектантские молитвы и обряды, чаще других вычитывающие и выполняющие их на молениях и разных празднествах, также закупающие материалы и изготовляющие разные предметы и утварь для молений,
ходоки по делам секты, прорицатели, сновидцы и т.д. К лицам указанного порядка можно отнести: знатоки молитв и обрядов — д.Бол.Рутки Гр.Гаврилов (он же прорицатель), с.Упши братья
Андрей и Тихон Якмановы (А.Якманов известен и как ходок), д. Кӧрдӧ Гр. Захаров Смирнов (он же прорицатель) и из д. Ошламучаш прорицательница Киндавий Киндулкина. Из
перечисленных лиц последние двое ныне здравствующие, как замечается, являются представителями двух течений уже внутри одного и того же первого толка. Как на лиц, хорошо осведомлённых об учении секты,
можно ещё указать на двоих, а именно: на старуху Наталью Филиппову из дер. Большой Ориш, считающуюся, правда, во II-м толке и на Василия Тихонова Якманова. Последний, хотя уже и не
состоит в секте, но до выбытия из секты был живым свидетелем молений, религиозных споров сектантов и гонений духовенства

Кнндулкин с семьей
(фото нз фондов Национального музея РМЭ им.Т.Евсеева)
и властей на них. Следовательно, для целей изучения секты В. Якманов, как не заинтересованный в развитии секты, пожалуй более интересен, чем даже сами представители секты. Интерес к имени В. Якманова
удваивается ещё потому, что он, как высланный в 1906 году из пределов Вятской губернии «ввиду крайне вредной противоправительственной деятельности», для данного времени может быть более благонадёжным
работником, чем кто-либо другой. Кроме того, скрываясь от преследований властей, Якманов после 1912 г. бежал в Финляндию.
Что касается вознаграждения жрецам и их помощникам у язычников, то хотя и в незначительной степени, чем, например, в христианстве, оно всё же наблюдается. Жрецы у марийцев - язычников определённого
оклада или другого постоянного материального вознаграждения не получают, но во время больших молений, кроме продуктов питания получают и специальные денежные приношения, называемые, напр., у восточных
марийцев «мама окса».
У кугусортинцев же, так как нет жрецов и их помощников, то и платить некому. Не получают ничего ни чтецы молитв, ни руководители молений.
Что касается материальных приношений для жертвоприношений, т.е. воска, мёда, масла, посуды и т.д., то их доставляют смотря по молениям: при молении частном - то лицо, та семья, ради которых это
совершается; при общественных — все участники приблизительно равномерно применительно к материальной обеспеченности молящихся. Также и ходоки по делам секты, заготовители всяких материалов для молений,
изготовители молитвенной утвари и т.д. за свои труды ничего не получают, а, так сказать, жертвуют свой труд ради богоугождения.
В целях распространения учения секты, последователи её никакой агитации не ведут, никаких кампаний не предпринимают, полагая, что если угодно богу, то всякий новообращающийся сам придёт в секту.
Собственно, если всмотреться в историю секты, то нетрудно увидеть, что почти за всё время своего существования она должна была больше заботиться не о распространении своего учения, а об удержании
своих членов в секте; так сказать, не нападать, а лишь укреплять свои позиции. Известно, что несмотря даже на отсутствие активной агитации, секта при самодержавной власти всё время подвергалась
гонениям от властей не только духовных, но и гражданских. А в 90-х годах прошлого столетия, в период, видимо, наибольшего распространения и влияния секты на окружающих их сородичей, секта испытала
в лице главных своих представителей самый решительный удар — суды духовный и гражданский, ссылка вожаков и гонение оставшихся на родине, и в результате этого секта в численном отношении от сотен
последователей сократилась до десятка душ, оставшихся верными лишь благодаря исключительной стойкости характера и убеждённости в правоте своей веры. Понятно, что при таких обстоятельствах о пропаганде
не могло быть и речи.
Хотя по манифесту 1906 г. сектанты, правда, и вернулись на родину и могли уже как будто беспрепятственно исповедывать свою веру, но жестокий экономический удар, нанесённый им во время ссылки их оказал
для отказавшихся от секты известное значение. Немногие из них решились вернуться в секту, а вновь поступающих было ещё меньше того.
Но как бы то ни было, как на виды некоторой агитации своего вероучения, можно указать на следующие моменты в жизни секты.
Во 1-х, демонстрирование предметов богослужения на Казанской научно-промышленной
выставке в 1890 г., давшее в результате награждение сектантов похвальными листами и медалями, несомненно, подняло значение секты в глазах простой языческой массы.
Во 2-х, в стремлении сектантов образовать по возвращении из ссылки особую общину также можно усматривать желание доказать на примере истинность своей веры и преимущества её для практической
жизни и тем привлечь новых последователей.
Наконец, в 3-х, издание молитвенных текстов секты, хотя оно не имело никаких комментариев, разъяснений о сущности секты, могло также отчасти способствовать распространению учения секты.
Остаётся сказать ещё о приёме новых членов и об исключений из неё.
В секту принимаются все природные марийцы, из немарийцев - знающие марийский язык и принимающие учение секты целиком.
Приём в секту предваряется испытаниями следующего характера.
На испытуемого налагается пост, продолжающийся семь недель, но срок этот может быть ограничен и сорока днями. Пост заключается в
воздержании от употребления в пищу и питьё всего запрещённого сектой. Но и из дозволенного сектой испытуемый должен употреблять в самом ограниченном количестве, лишь для поддержания жизни.
Кроме того, он должен делать ежедневно омовение всего тела, каждый раз меняя бельё на новое, чистое; при этом он неизменно должен обращаться с молитвой к богу с просьбой о прощении грехов и об
удостоении вступить в секту и обещанием стоять твёрдо на началах новой веры. Особых молитвенных слов для этого случая нет. Это предоставляется уменью самого испытуемого.
Помимо телесного воздержания испытуемый должен выдержать ещё и духовное воздержание, именно: не браниться, не говорить ничего непристойного, не плясать и вообще избегать всякой роскоши, увеселений и т.д.
Одновременно с испытанием новообращающийся готовит для себя и специальную молитвенную одежду из материалов, которые он покупает или занимает у сектантов.
Приготовившийся указанным образом испытуемый окончательно принимается в секту и допускается на моление наравне со всеми членами секты.
Исключению из секты подвергается всякий член, не выполняющий сектантских требований, как при совершении молений, так и в обыденной жизни. Исключение не ограничивается простым только отказом в
непризнании членом и отклонением от молений.
С этой целью устраивается целое общественное моление, которым свилетельствуют богу об отпадшем члене с просьбой о возвращении его в лоно секты. Если после моления отпадший раскается, его принимают
вновь в секту: но если не раскается, то устраивают вновь общественное моление, в котором просят бога снять с общества верующих ответственность за дальнейшее поведение и греховные поступки отпадшего.
![]()

